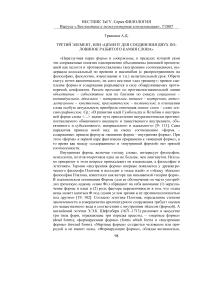Третий элемент, или «цемент для соединения двух половинок разбитого камня слова»
Автор: Травкина Альбина Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120462
IDR: 146120462
Текст статьи Третий элемент, или «цемент для соединения двух половинок разбитого камня слова»
Такие блестящие языковеды, как В. Гумбольдт и А.А. Потебня, вникая в проблему внутренней формы слова, неизбежно обращались к поэтическому слову. Как пишет В. Гумбольдт, «поэтическое искусство непосредственно, в более высоком смысле, нежели любое другое искусство, предназначено для предметов двоякого рода – для форм внешних и внутренних, для мира и для человека» [7: 193]. По мнению А.А. Потебни, «слово с ясным представлением само по себе должно быть названо поэтическим произведением» [12: 194], так же, как «всякое новое слово есть поэтическое произведение» [Op. сit.: 198]. Сознавая творческую, энергийную сущность языка, Потебня говорил о поэтичности языка и о поэтическом языке как особой форме мышления и выражения. Неудивительно, что идеи А.А. Потебни были востребованы при поисках новой поэзии, в которой живое слово должно, подобно жезлу Аарона, изойти цветами значений. У А. Белого в «Жезле Аарона», своего рода «поэтической вариации на теорию Потебни о слове», основным объектом выступает Слово в поэзии. Принимая «слиян-ности форм с содержанием», А. Белый отвергает их единство в общепринятом смысле, утверждая, что «содержанье и форма суть две половинки разбитого камня словесности; соединение двух частей камня слова нуждается в цементе» [2: 389]. А на поставленный (им же) вопрос о том, где этот цемент, дает следующий ответ: «Он – в нас, внутри нас: слово подлинно при дверях; его нет еще: соединяющий цемент – не может быть пылевыми остатками старого разбитого слова; меж гласящими звуками и безгласною мыслью – воистину бездна…» [Ibid]. Содержание и форму, по мнению Белого, следует переплавить, с тем чтобы в «иной, третьей плоскости вскрылось подлинное соизмеренье». Эта плоскость именуется им областью «третьего смысла», в которой Слово-плоть становится духовным словом: «Сферы “содержание”, “форма” – непересеченные сферы; внутри содержа- ния не встречает нас форма; внутри самой формы отсутствует содержание» [Ibid]. Содержание пересекается с формой «в третьем, в неявленном смысле, во внутреннем слове, еще не проросшем, не вскрытом». Соединение внутренней и внешней форм слова образует, согласно А. Белому, «живой, по существу иррациональный, символизм языка; всякое слово в этом смысле – метафора, т.е. оно таит потенциально и ряд переносных смыслов; символизм художественного творчества есть продолжение символизма слова; символизм погасает там, где в звуке слова выдыхается внутренняя форма… » [1: 206].
Несмотря на интерес многих, в том числе и крупных, ученых к «таинственному внутреннему», само понятие внутренней формы остается неопределенным. В. Гумбольдт, первый из лингвистов, перенесший понятие внутренней формы в область языка, не дает четкого определения внутренней формы. Справедливости ради отметим, что некоторые исследователи обнаруживают у него «намеки» на определенные требования к внутренней форме, а именно: 1) принципы исследования внутренней формы должны быть иными, чем принципы изучения внешней формы; 2) внутренняя форма не лишена формы субстанции; 3) она является внутренней формой языка, а не внеязыкового содержания [9: 46]. Важно, что В. Гумбольдт «определил место внутренней формы языка и в известной степени охарактеризовал ее природу: внутренняя форма не только организует субстанцию, но от нее зависит, по существу, и организация внешней структуры» [3: 49]. В логике Гумбольдта, внутренняя форма выступает как специфический для данного языка способ объединения звукового материала и психического содержания, т.е. «духа народа». «Дух народа», первоначально объективируясь во внутренней форме, впоследствии выражается с помощью языка, являющегося духовным воплощением «индивидуально-народной жизни». «Вообще понятием формы отнюдь не исключается из языка все фактическое и индивидуальное; поскольку в него включается только действительно исторически обоснованное, точно так же, как и все самое индивидуальное» (Цит. по: [3: 48]). Внутренняя форма как формальная организация психической субстанции представляет собой идеальный аспект, в то время как внешняя (звуковая) форма составляет внешний, материальный аспект. При этом внутренняя форма выступает в качестве единого принципа «живой действительности» мышления, языка и речи, т.е. языка-энергии. Это означает, что «образование внешних языковых форм всегда проходит в свете единой внутренней формы, которая представляет сквозное формирующее начало в языке» [16: 138]. Рассматривая звуки как явление «телесное и чувственное», а «внутреннюю форму» – как интеллектуальную, духовную сторону языка, В. Гумбольдт полагает, что в звуках заложены способы выражения внутренних отношений, так что различия в звуковом строе разных языков отражаются в отличии их «внутренних форм», т.е. интеллектуальной стороны. При этом «внутренняя форма» языка находится в зависимости не только от разума, но и от чувства и фантазии. В.В. Виноградов на-
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 7/2007___ ходит некоторые параллели между воззрениями В. Гумбольдта и учением Ф.И. Буслаева о «несогласованности “общих законов логики” и “собственных законов языка”, о частых их столкновениях и противоречиях» [4: 139].
Развивая гумбольдтовскую идею «внутреннего» в преломлении к слову, А.А. Потебня исходит из того, что предназначение теоретического языкознания состоит в том, чтобы «сообщить человеку убеждение в субъективном содержании слова и уменье выделить этот элемент из объективного сочетания мысли и слова» [12: 180]. Столкновение «субъективного содержания слова» и «объективного сочетания мысли и слова» приводит его к поискам некоего третьего элемента и в конечном итоге к признанию трехэлементного состава слова: «… слово состоит не менее как из трех элементов, то есть из внешней формы (единство звука), знака (представления) и значения» [Op. сit.: 184]. Понятие внутренней формы получает у него достаточно общее определение: «Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» [11: 210-211]. По мнению А.А. Потебни, только этим можно объяснить наличие в одном и том же языке множества слов для обозначения одного и того же предмета, и, напротив, способность одного слова обозначать «предметы разнородные». Будучи переменной и неповторяемой «в различных индивидуальностях», внутренняя форма слова способна порождать новое словесное творчество. Слово, сохраняющее все три элемента, – это образное, поэтическое слово. В поэтическом произведении А.А. Потебня находит те же три элемента, что и в слове: внешней форме слова соответствует внешняя форма поэтического произведения, представлению в слове – поэтический образ, а значению слова – идея (значение) поэтического произведения. «Поэтический образ служит связью между внешней формой и значением. Форма условливает собою образ, образ вызывает значение. Это последнее может быть объяснено следующим образом: образ применяется к различным случаям, и в этом состоит его жизнь» [Ibid]. Внутренняя форма слова выступает у него как «посредствующее звено между формальной «отчетливостью» и содержательным буйством смыслов» [17: 307].
Сложная концепция внутренних форм слова, отягощенная описанием разнообразия этих форм и заключенных в слове порождающих возможностей, принадлежит Г.Г. Шпету. Интерпретируя и оценивая его научное наследие, В.П. Зинченко очень четко формулирует заслуги Г. Шпета. Во-первых, «понятия внешней и внутренней формы, которые у Гумбольдта были замечательной находкой, у Шпета стали предметом структурного анализа» [9: 166]. Во-вторых, именно ему «удалось проникнуть за внешнюю форму слова сквозь его оболочку, которая и сама вовсе не проста, в его внутреннюю форму, оказавшуюся неизмеримо более сложной, чем внешняя» [Op. cit.: 73]. В-третьих, «прозрение Шпета» – это «живое движение значений и смыслов во внутренней форме слова» [Op. сit.: 48]. Живое слово-понятие для Шпета – это «не только “объем” и “класс”, но также знак, который требует понимания, т.е. проникновения в некоторое значение, как бы в “интимное”, в “живую душу” слова-понятия» (Цит. по: [Op. сit.: 72]). Развивая мысль о множественном состоянии слова, Г. Шпет рассматривает слово как целое, как форму множества форм; при этом значение представляет собой лишь одну из этих форм. Под структурой слова он понимает «не “плоскостное” его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: от чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдете-тического) предмета, по всем ступеням располагающихся между этими двумя терминами отношений» [18: 217]. В ней Г. Шпет выделяет внешние, чистые (онтические) и внутренние формы: «… если признать морфологические формы внешними, а онтические формы называемых вещей условиться называть формами чистыми, то лежащие между ними формы логические и будут формами внутренними, как по отношению к первым, так и по отношению ко вторым, потому что в этом последнем случае “содержание” предмета есть внутреннее прикрываемое его чистыми формами содержание, которое, будучи внутренне-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние формы как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы сущего и возможного вещного содержания» (Цит. по: [9: 53-54]). Для него важны формы логические, поскольку они – «сущные и необходимые, столь же устойчивые и самотожественные, как тожествен в себе формообразующий предмет» [18: 146]. Логические формы представляют собой отношения между морфологическими формами вещнего, т.е. называемого содержания, и онтическими формами предметного, т.е. подразумеваемого содержания. Очерчивая область логических форм, Г. Шпет указывает на то, что «слово» в его идеальной внутренней форме, т.е. логическое слово, выполняет в познании многообразные функции: номинативную, семасиологическую, предикативную. Внутренняя форма слова не исчерпывается логическими (смысловыми) формами, которые «как бы обволакиваются формами синтаксическими». В результате «слово (со всеми своими внутренними формами) проникает в действие, становится его внутренней формой…» [9: 63].
Шпет неоднократно возвращается к проблеме предметности слова, отмечая, что аристотелевская логика «не дает выйти из плоскости рассудочного мышления и проникнуть в глубину, в интимное предмета через уразумение этой интимности» (Цит. по: [9: 32]). «Загадка предметности слова» состоит в том, что «оболочка слов и логических выражений закрывают нам предметный смысл и нужно снять другой покров объективированного знака, чтобы уловить некоторую подлинную интимность и в ней полноту бытия» [Ibid].
Понимая поэтику (в широком смысле) как «грамматику поэтического языка и поэтической мысли», Г. Шпет считает, что именно через конструкцию поэтических форм как производных форм логических «слово выполняет особую, свою – поэтическую – функцию». Поэтические формы, по его мнению, также могут быть названы внутренними формами. При этом внут- ренняя поэтическая форма обязательно «прикреплена» к синтаксису. «Характер отношения внутренней формы к мысли осязательнее всего сказывается в “словах” и “фразах” <...>, неоправленных синтаксически, т.е. в потенциальном состоянии внутренней формы» [18: 222]. По Шпету, основу искусства составляет наличный предметный остов во внутренней форме слова в соединении со смыслом: «… художественное творчество и в своем смысле и в своем осуществлении есть искусство созидания внутренних форм – только они – грани того драгоценного камня, который составляет предмет эстетического наслаждения и который вправляется во внешние формы металла» (Цит. по: [9: 37]).
Именно Г. Шпету принадлежит идея об относительности разделения форм на внешнюю и внутреннюю, о подвижности границ между ними – идея, которая получила свое дальнейшее основательное развитие в трудах М.К. Мамардашвили и В.П. Зинченко.
Центральное место в учении М.К. Мамардашвили занимает проблема превращенных форм и превращенных объектов (действий), которым он придает такое большое значение, что ставит вопрос о конструировании специального оператора в концептуальном аппарате гуманитарных наук, обозначающего особую онтологическую реальность – превращенные объекты или «превращенные формы». Во главе его учения находится специфика превращенной формы. «Особенность превращенной формы, отличающая ее от классического отношения формы и содержания, состоит в объективной устраненности здесь содержательных определений: форма проявления получает самостоятельное “сущностное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое сливается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы < … > и становится на место действительного отношения» [10: 316]. Здесь исключается непосредственное, прямое отображение содержания в форме. Специфика превращенных форм выражается и в том, что они являются восполняющими и замещающими формами, «и в этом смысле система связей может быть представлена как система уровней преобразования и замещения. Структуру превращений, а тем самым и структуру того квазипредмета, каким является превращенная форма, можно представить в виде следующей последовательности: выключение отношений из связей – синкретическое замещение предшествующего уровня системы этим формооразо-ванием. Иными словами, превращенные формы регулируют систему путем восполнения отсеченных ее звеньев и опосредований, замещая их новым отношением, которое и обеспечивает “жизнь” системы» [Op. сit.: 321].
В.П. Зинченко выдвигает тезис о гетерогенности и принципиальной общности строения слова, образа, действия, основа которой скрыта в их внутренних формах. «Их знакомость друг с другом, взаимная проницаемость, возможность диалога и «обмена опытом» вытекает из гетерогенного строения каждой из них, что и составляет тайну их взаимодействия и продуктивности» [9: 86]. Для внешней и внутренней форм характерны отно- шения не только превращаемости «по вертикали или в глубину», но и отношения обратимости. «Чтобы нечто стало невербальным внутренним или внешним словом, оно должно быть словом же и опосредовано. <…> И такой механизм взаимного опосредствования постоянно работает. Его участники – действие, слово и образ постоянно “прорастают” друг в друга, обогащают внутренние формы каждого, на чем и строится их искомое смысловое единство» [Op. сit.: 108]. Понять сложность взаимоотношений между словом, действием, образом и мыслью можно только при понимании их внешних и внутренних форм и их обратимости. «Слово, образ и действие – это живые, т.е. способные к развитию животворящие формы» [Op. сit. 167]. Обращаясь к внешнему и внутреннему, В.П. Зинченко утверждает, что «“переходы”, осуществляющиеся в зазоре, – это построение внешнего и внутреннего миров»: внешний мир строится внутри, а внутренний мир строится вовне, и акты построения этих миров – синергичны. Как идеальная, так и реальная формы объективны и субъективны, хотя и в различной степени, так что встает вопрос о переходе одной формы в другую и их взаимодействия. «Идеальная и реальная формы – это живые формы. Наличие у них общих свойств делает их потенциально и актуально совместимыми» [8: 27].
Суммируя вышесказанное подчеркнем еще раз, что слово имеет свою собственную внутреннюю форму, так что сама эта проблема может влиться в общую теорию слова. В пользу этого заключения свидетельствует тот факт, что «таинственное внутреннее» по-прежнему привлекает современных лингвистов (Е.Г. Беляевская, В.Г. Варина, С.Д. Кацнельсон, Б.А. Плотников, О.Н. Селиверстова, В.Н. Телия, Н.Д. Финкельберг и др.). Однако пока не приходится говорить об общепринятом определении внутренней формы слова. Одна из собственно лингвистических трудностей выработки адекватного определения внутренней формы слова связана с тем, что используемые для наименования признаки не исчерпывают внутренней формы слова, так как обозначаемое языковой единицей понятие включает ряд объективно никак не выраженных признаков. На пути поиска, видимо, невозможно обойтись без решения вопроса о том, в каком общем контексте рассматривается внутренняя форма – на фоне противопоставления внешняя форма vs. внутренняя форма или следуя, например, потебнианской трехэлементной схеме внешняя форма (звук) – внутренняя форма (представление) – значение, где внутренняя форма, выступающая в качестве третьего элемента, служит связью между формой внешней и значением. В пользу «третьего элемента» свидетельствует и следующее высказывание В.В. Виноградова: «Если бы структура слова была только двусторонней, состояла только из звука и значения, то в языке для всякого нового понятия и представления, для всякого нового оттенка в мыслях и чувствованиях должны были бы существовать или возникать особые, отдельные слова» (Цит. по: [13: 56]). Это положение он подтверждает словами Соссюра, называвшего «великим заблуждением» вульгализаторский билатеральный подход к сло- ву. Какой бы ни была избранная схема, трудно проигнорировать мысль о наличии у вещи третьего измерения, которое невозможно ни увидеть, ни потрогать. Ее четко высказал Х. Ортега-и-Гассет: «Глубинному поверхность нужна для того, чтобы укрываться за ней, поверхности же или облики вещей, желая оставаться таковыми, требуют, чтобы существовало нечто, над чем они простирались бы и что укутывали бы собой» (Цит. по: [9: 32]). При этом остается в силе тезис о единстве формы и содержания. Для А. Белого «содержание и формы – едины в исконном, где они – формо-содержания, звуко-мысли» [2: 410]. Сходное высказывание находим у Г. Шпета: «В идее можно даже сказать: форма и содержание – одно. Это значит, что чем больше мы будем углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем убеждаться, что оно ad infinitum скопление, переплетение, ткань форм. И таков собственно даже закон метода: всякая задача решается через разрешение данного содержания в систему форм» (Цит. по: [9: 108]).
Тезис о том, что внутренняя форма слова служит связью между формой внешней и значением, поддерживается специфической ролью языка в отношении мысли, заключающейся «не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и при том таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц» [14: 144]. По образному выражению Л. Витгенштейна, язык так «переодевает мысли», что «по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаружить форму тела» [5: 44]. Именно в слове «осуществляется связь между разными сферами бытования языка и его представленностью в сознании языковой личности» [13: 54]. Напомним, что у Гумбольдта внутренняя форма выступает в качестве единого принципа «живой действительности» мышления, языка и речи. А.А. Потебня говорит о субъективном содержании слова, выделяемом из «объективного сочетания мысли и слова». Г. Шпет, размышляя о классической проблеме соотношения мысли и слова, характеризует чувственно данное как трамплин, оттолкнувшись от которого «мысль должна не только преодолевать вещественное сопротивление, но им же и пользоваться как поддерживающей ее средою. Если бы она потащила за собой весь свой вещный багаж, высоко она не взлетела бы. Но также ни в абсолютной пустоте, ни в абсолютной бесформенности, т.е. без целесообразного приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ, форма, облик, идеальная плоть есть слово » (Цит. по: [9: 19-20]). А согласно А. Белому, разрешение противоречий о слове – в признании, что «звук и мысль, подзывая друг друга, друг в друге кончаются; звук и мысль, расколовшись друг в друге, друг к другу, однако, стремятся; звук и мысль, утверждая себя, убивают себя: убивая себя, полагают себя» [2: 410].
Проблема внутренней формы слова оказывается актуальной в связи с различением, во-первых, живого слова и слова «установившегося», «сло- варного» (что отмечалось ранее), а во-вторых, прагматической (обыденной, научной) и поэтической форм слова. По утверждению В.П. Григорьева, внутренней формой обладают, хотя бы потенциально, «все без исключения структурные элементы поэтического языка, что и отличает их от обычных коммуникативных единиц» [6: 17]. Ему вторит другой исследователь, В.В. Фещенко: «Знак в художественном воплощении, в отличие от знака в естественном языке, имеет глубинную перспективу, направленную во внутренний мир человека, личности, творца» [15: 77].