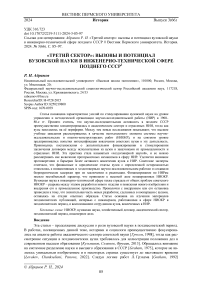«Третий сектор»: вызовы и потенциал вузовской науки в инженерно-технической сфере позднего СССР
Автор: Абрамов Р.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Позднесоветские университеты как исследовательские институции
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике усилий по стимулированию вузовской науки на уровне управления и методической организации научно-исследовательской работы (НИР) в 1960- 80-е гг. Принято считать, что научно-исследовательская активность в позднем СССР преимущественно концентрировалась в академическом секторе и отраслевых НИИ, тогда как вузы находились на её периферии. Между тем новые исследования показывают, что высшие учебные заведения рассматривались в качестве неотъемлемого элемента системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), и на союзном уровне предпринимались попытки интенсификации вовлечения советских вузов в эту деятельность. Принимались постановления о дополнительном финансировании и стимулировании заключения договоров между исполнителями из вузов и заказчиками из промышленности и отраслевых НИИ. Эта практика стала называться «хоздоговорной наукой», и ее можно рассматривать как включение проторыночных механизмов в сферу НИР. Уделяется внимание противоречиям и барьерам более активного вовлечения вузов в НИР. Советские эксперты отмечали, что финансовые и юридические отделы вузов с определенной осторожностью относились к инициативным и хоздоговорным научно-исследовательским работам и создавали бюрократические задержки при их заключении и реализации. Финансирование по НИРам носило нестабильный характер, что приводило к высокой доле незавершенных НИОКР. Вузовская наука в инженерно-технической сфере также страдала от общих проблем советского НИОКР - разрыва между этапом разработки нового изделия и появления нового изобретения и внедрения его в промышленное производство. Проволочки с внедрением или его остановка приводили к тому, что значительная часть новых разработок, сделанных в кооперации с вузами, оставалась на стадии опытных образцов. Статья основана на изучении материалов позднесоветских публикаций, интервью с инженерами, работавшими в сфере НИОКР в позднесоветских период, и воспоминаниях сотрудников вузов, вовлеченных в НИР.
Ниокр, вузовская наука, хозяйственный договор, академический сектор, позднесоветский период, инженерное дело
Короткий адрес: https://sciup.org/147246555
IDR: 147246555 | УДК: 316.723 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-85-97
Текст научной статьи «Третий сектор»: вызовы и потенциал вузовской науки в инженерно-технической сфере позднего СССР
Эта статья – продолжение дискуссии о роли вузовской науки в позднесоветский период. В работах, посвященных данной теме, историки и социологи преимущественно фокусировались на анализе работы академического сектора советской науки [ Грэхэм , 1998], тогда как рассмотрение ситуации в позднесоветских вузах требовалось для иллюстрации положения дел в современном высшем образовании [ Кузьминов , Семенов , Фрумин , 2013]. Обращалось внимание на системное разделение науки и высшего образования в СССР [ Graham , 1975], которое не являлось уникальным изобретением и в некоторых странах существует до настоящего времени [ Lovakov , Chankseliani , Panova , 2022]. Следуя логике работ Л. Грэхема [ Graham , 1992]
М. Чанкеселиани констатирует, что наиболее сильные ученые предпочитали работать в академических институтах и НИИ [ Chankseliani , 2022, p. 33‒36], участвуя в университетской жизни в качестве совместителей. В работе И. Федюкина [ Fedyukin , 2022] пересматривается сложившееся за последние десятилетия представление о глубокой вторичности научно-исследовательской работы в вузовской системе того времени. Автор говорит о повышенном внимании профильных ведомств к развитию вузовской науки в изучаемый период при сохранявшемся недостатке средств и ресурсов, выделяемых вузам на подобную работу и при дефиците системной управленческого подхода, о чем писал Г. Лахтин в 1990 г. ( Лахтин , 1990). В 2023 г. вышла коллективная монография «Наука большой страны», в которой предлагается свежий взгляд на советскую вузовскую науку [ Грибовский , Дежина , 2023] как на сложный объект управления, находящийся на стыке образования и исследований.
В методических материалах о научно-исследовательской деятельности в советских вузах даются определения этой работе, основанные на позитивистском и ортодоксально марксистском идеологическом фундаменте. Например, в брошюре об организации НИОКР в машиностроительных вузах дается такое определение научно-исследовательской деятельности: «совокупность работ, направленных на открытие и изучение законов развития природы и общества и создание более прогрессивных средств производства и потребления» (Методические положения…, 1975, с. 5). Применительно к машиностроительному вузу эта деятельность определялась как совокупность теоретических, экспериментальных, проектных и опытных работ, имеющих целью разработку научно-технических основ и создание на базе этого более прогрессивной техники в данной отрасли материального производства (Там же).
В 1983 г. в научно-исследовательской лаборатории Московского института инженеров транспорта (МИИТ) «Эффективность внедрения и использования научно-исследовательской работы» была выпущена брошюра с глоссарием, объясняющим ключевые термины, которые использовались в научно-исследовательской работе в вузах (Организация…, 1983). Публикация представляет интерес, потому что она включает основные конвенциональные определения по теме научно-исследовательской работы в вузах. Так, НИР определялась как «самостоятельное исследование, направленное на выполнение конкретного сформулированного научного или научно-технического задания». Она является «единицей планово-финансового учета». В брошюре имеется типология научно-исследовательских работ: «НИРы из государственного бюджета»; «НИРы по министерским заказам, финансируемые из бюджетов отдельных министерств»; «НИРы по хозяйственным договорам», финансируемые заказчиками из числа предприятий и организаций (Там же, с. 6).
«Хоздоговорная наука», осуществляемая вузами по заказу предприятий и НИИ, занимает весомое место вузовской НИР. Этот тип исследовательской работы был призван формировать научный гринфилд на уровне кафедр и стимулировать сотрудничество промышленности и высшего образования в сфере НИОКР [ Fedyukin , 2022]. Однако хоздоговоры были удобным способом отчетности для предприятий и вузов по показателям инвестиций в НИОКР и дополнительным бонусом для сотрудников вузов в отсутствие реальных результатов, внедренных в производство и управление. Нередко директора предприятий и НИИ «охотно “подкармливали” вузовских контрагентов договорами на выполнение второстепенных работ» ( Лахтин , 1990, с. 75), были и злоупотребления в виде завышения смет и премий [ Грибовский , Дежина , 2023, с. 368]. Тем не менее во многих публикациях того времени говорилось о том, что «вузы становятся крупными научными центрами страны, располагающими квалифицированными научнопедагогическими кадрами и материально-технической базой для научных исследований. Научные исследования и учебный процесс взаимно обогащают друг друга» (Методические положения…, 1975, с. 3).
В данной статье я продолжаю разговор об особенностях вузовской науки в позднесоветский период в СССР с акцентом на вузы, находившиеся в РСФСР, фокусируясь на инженернотехнической сфере и опираясь на воспоминания участников событий и доступные методические материалы того периода, в которых обсуждаются барьеры и возможности для развития НИР в изучаемое время. Упоминания о практиках вузовской науки можно обнаружить в мате- риалах кафедрального краеведения - мемориальных сборниках, посвященных истории кафедр или факультетов и приуроченных к очередному юбилею. Далеко не все кафедры и факультеты публикуют такие материалы, а в тех, что опубликованы, крайне редко имеются детализованные описания практик организации НИР, что затрудняло поиск материалов. Поэтому дополнительно были использованы материалы десяти интервью с инженерно-техническими специалистами, работавшими в позднесоветское время в советских НИИ и вузах в Москве и Пензе.
Управленческие коллизии вузовской науки
Советская модель социализма опиралась на идеи ускоренного промышленного развития, которое должно было поддерживаться активным внедрением новых изобретений. С конца 1950-х гг. «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция» [ Kochetkova , 2022; Васильева , 2012; Berliner , 1976] стали ключевыми идеологическими концепциями, под эгидой которых шло управление фундаментальными исследованиями и прикладными инженерно-техническими разработками. Как и в других странах, в послевоенный период в СССР произошла «образовательная революция» [ Парсонс , 1998, с. 127‒128], когда среднее профессиональное и высшее образование стали массовыми: к ним получили доступ выходцы из разных социальных групп. В СССР это означало создание новых учебных заведений (к 1989 г. в стране работало 973 высших учебных заведения [ Lovakov , Chankseliani , Panova , 2022]), открытие новых факультетов, в первую очередь по специальностям в области инженерии и информатики. Выпускники этих факультетов предпочитали идти работать в систему НИОКР - многочисленные НИИ и конструкторские бюро на предприятиях, не стремясь становиться цеховыми инженерами ( Кугель , Никандров , 1971).
В интервью инженеры, занятые в позднесоветских вузах и НИИ, упоминали о миграции сотрудников между этими двумя секторами. Один из сотрудников Всесоюзного научноисследовательского технологического института приборостроения (ВНИТИПрибор, затем -НИИ «Контрольприбор») рассказывает о переходе молодого и амбициозного доктора технических наук А. Г. Рыжевского из Пензенского политехнического института в этот НИИ, где ему предоставили больше возможностей для самореализации: «И он тогда собрал вокруг себя коллектив, примерно 20 человек он забрал с кафедры измерительной техники из Политеха, и в НИИ “Контрольприбор” отправился. Ему дали “полный газ” и пообещали, что он сможет сменить направление или развить старые направления. Он пришел туда и начал революцию там делать. Работа интересная была, но институт, вообще «Минприбор» (Министерство приборостроения), - это было одно из самых бедных министерств среди технических таких министерств, поэтому финансирования вообще никакого не получало в это НИИ - полный хозрасчет» (инженер, г. Пенза).
Действительно, А. Г. Рыжевский мигрировал в НИИ в начале 1970-х гг., однако в политехническом институте он уже имел опыт работы в вузовской науке, участвуя в деятельности отраслевой научно-исследовательской лаборатории при университете. В НИИ «Контрольприбор» он стал директором по научной работе, продолжая преподавать на профильной кафедре2. Миграция из вуза в сектор НИИ объясняется лучшими возможностями для реализации себя в качестве разработчика, а также дополнительной автономией по заключению прямых договоров на НИР с заинтересованными ведомствами и учреждениями, о чем упоминает один из информантов: «Заключали договора с теми, кто интересовался в практической модернизации всевозможных технологических процессов или контроле над электронной аппаратурой» (инженер, г. Пенза).
НИОКР в СССР 1950-1980-х гг. развивались экстенсивно через рост числа исследовательских организаций и численности ученых и инженеров, работавших в них, а попытки советского правительства вернуть науку в вузы, начавшиеся еще в 1930-е гг., скорее приводили не к качественным изменениям, а к экстенсивному «статистическому» росту и «мелкотемью» (Лахтин, 1990, с. 70-71). Е. А. Долгова и Е. А. Стрельцова в обзоре статистики советской науки отмечают, что с 1930-х до 1980-х гг. число НИИ выросло в 7 раз (до 2,7 тыс. в 1988 г.) и на их долю пришлось «до 53 % всех научных организаций страны» [Долгова, Стрельцова, 2023, с. 9]. Уже в тот период невысокая продуктивность и «перенаселенность» НИИ стали объектом экс- пертной критики и даже карикатур в сатирическом журнале «Крокодил», где публиковались огромные и наполненные инженерами и разработчиками интерьеры НИИ с констатацией их низкой эффективности и даже безделья. Советские эксперты полагали, что межорганизационная фрагментация управления сферой НИР серьезно снижает эффективность внедрения изобретений и результатов научных исследований в промышленность: «Глубокая разобщенность различных исследовательских и опытно-конструкторских подразделений, вытекающая из их принадлежности к различным промышленным министерствам» (Зархин, Ильюшенко, 1978, с. 221‒222).
Организация научно-исследовательской работы в позднем СССР имела эксплицитную стратификацию, отраженную в аналитике того периода. А. И. Анчишкин в поздней (и запоздавшей по стилю и содержанию на несколько лет) монографии разделяет сферу НИОКР на несколько секторов: «академический» (АН СССР и академии наук, включая отраслевые); отраслевой – ведомственные НИИ; вузовский ‒ «институты и лаборатории в составе университетов и вузов» ( Анчишкин , 1989, с. 353) и заводской – любые научные подразделения в составе предприятий. Воспроизведена сложившаяся к концу существования СССР иерархия научных исследований, на вершине которой находились академические институты, а вузовская наука располагалась на третьем месте перед замыкающей список так называемой заводской наукой, статус которой можно было сравнить со статусом той же заводской художественной самодеятельно-сти3 на фоне профессиональной художественной сцены. Эта классификация отражала реальный престиж организаций, вовлеченных в НИОКР, и распределение ресурсов между ними. И вузы здесь были далеко не в лидерах. В монографии Г. А. Лахтина глава о вузовской науке замыкает характеристику секторов производства, уступая третье место заводской науке, что говорит об относительно невысокой значимости этой сферы, несмотря на ее массовость ( Лахтин , 1990).
Эксперты того времени говорили об интеграции вузов и системы НИИ в реализации НИР: «Фундаментальные исследования должны максимально интегрироваться с высшим образованием. Здесь наиболее благоприятные условия для непосредственных контактов ученых и специалистов с будущими научными работниками, для передачи и усвоения новых научных знаний» ( Анчишкин , 1989, с. 362‒363).
Идея интеграции академической науки и вузов стала популярной в 1990-е гг., когда появились первые образовательные программы в академических институтах, подобные Государственному академическому университету гуманитарных наук, организованному в 1994 г. для воспроизводства научных кадров на базе Академии наук. В 2000-е гг. реформы российской высшей школы прошли под знаком расширения исследовательской составляющей и формирования корпуса исследовательских университетов, которые призваны были развивать на своей базе мощную научно-исследовательскую составляющую. Проблемой стало сведение многих из этих реформ к административным изменениям, приведшим к пересмотру профессионального статуса преподавателей и его понижению [ Балацкий , 2014], переводу их на «эффективные контракты» с обязательными показателями публикационной активности без качественных трансформаций системы организации работы высшей школы.
В позднесоветских мемуарах можно найти примеры сотрудничества вузов и НИИ. В историческом очерке истории кафедры вычислительной техники Пензенского государственного университета ( Вашкевич , 2009) есть упоминания о практически ориентированных исследованиях кафедры. В частности, описывается НИР по созданию аналого-цифровых преобразователей4 в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом математических машин (НИИММ) и Московским радиотехническим институтом, начавшиеся в конце 1960-х гг. Эти хоздоговорные отношения длились до 1976 г., и в итоге «был создан макет конвейерного двухканального десятиразрядного АЦП с временем преобразования 2 мкс» (Там же, с. 68–69), но ничего не говорится о дальнейшей судьбе этих разработок в контексте их промышленного производства, кроме того, что «успешно внедрен в радиотехническом институте г. Москвы двухканальный восьмиразрядный АЦП с временем преобразования 3 мкс» (Там же). Для кафедры, помимо финансового и содержательного, заметным результатом стала защита кандидатской диссертации на основе сделанных разработок ответственным исполнителем Г. И. Красновым.
До 1990-х гг. в Пензе располагалось одно из крупнейших в стране предприятий по производству часов - Пензенский часовой завод «Заря». В историческом очерке описывается опыт сотрудничества кафедры с ним: «В конце 1960-х гг. на кафедре ВТ состоялось совещание представителей научно-технических предприятий часовой промышленности г. Москвы и г. Пензы. Обсуждались вопросы создания автоматизированной системы контроля часовых механизмов при их массовом производстве на основе использования средств цифровой вычислительной техники. Кафедра ВТ на основе нескольких хоздоговорных работ с НИИчаспромом (Научно -исследовательский институт часовой промышленности СССР) и Пензенским часовым заводом начала активно вести НИРы по разработке методов и созданию автоматизированной системы массового контроля часовых механизмов» (Там же, с. 71). Работы над созданием и испытанием системы контроля часовых механизмов продолжались все 1970-е гг., и к 1979 г. был «сдан в опытную эксплуатацию образец системы для одновременного контроля 60 часовых механизмов» с ее опытной эксплуатацией и доводкой уже в начале 1980-х гг. (Там же, с. 72). Трудно оценить объемы и сложность проведенных хозрасчетных НИР, но очевидно, что путь от задания (конец 1960-х гг.) до воплощения системы в опытный рабочий промышленный образец (1981-1982) был достаточно длительным, чтобы говорить о степени инновационности проекта по его завершении. Для кафедры видимым результатом многолетней научно-исследовательской работы стала защита нескольких кандидатских диссертаций. К сожалению, в этой книге, как и в других работах в жанре кафедрального краеведения, практически отсутствуют упоминания о порядке финансирования таких НИР, выплатах ответственным исполнителям и другие сведения о практиках вузовской науки.
Руководство страны с помощью регулярно принимаемых постановлений пыталось интенсифицировать сотрудничество между высшим образованием и производством. В сентябре 1968 г. публикуется Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники». Эти меры повлекли за собой, с одной стороны, рост инвестиций в НИОКР, а с другой - стремление модернизировать систему оценивания эффективности этих вложений через «планирование научных исследований на основе прогнозирования их развития» (Методические положения..., 1975, с. 3).
Другим примером стимулирования сотрудничества вузов и промышленности в позднем СССР стало Постановление № 271 ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 апреля 1978 г. «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». В преамбуле постановления его необходимость легитимируется тем, что в вузах «мало выполняется крупных комплексных исследований, а результаты завершенных научных работ медленно внедряются в практику». Предполагалось улучшить экспериментальную базу вузов и систему планирования научно-исследовательской работы: согласно постановлению, в ведущих вузах должны были организовать научно-исследовательские отделы, чей статус приравнивался к статусу научно-исследовательских институтов. В начале 1980-х гг. было зарегистрировано 36 вузовских НИИ в 179 вузах РСФСР, хотя самыми активными, видимо, были НИИ работавшие с тематикой военно-промышленного комплекса [ Грибовский , Дежина , 2023, с. 353].
Для преподавателей вузов, активно включавшихся в научно-исследовательскую работу, предлагалось снижение учебной нагрузки и числа преподавательских часов. Подобная мера была внедрена и в постсоветской России в некоторых университетах, стремившихся выйти на глобальный академический рынок. Например, в Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») снижение преподавательской нагрузки предоставлялось тем, кто публиковался в международных журналах определенного уровня. Важным элементом повышения эффективности научно-исследовательской работы в вузах стало предложение по созданию бюрократической структуры, которая должна была аккумулировать и распределять на научные проекты дополнительные финансовые средства. Эта система могла стать отдаленным аналогом западной системы академических грантов и называлась в постановлении «управлением по хозяйственным расчетам».
Также в советских постановлениях предлагалось организовать межвузовские конкурсы научно-исследовательских работ с премиями победителям от 1000 до 2000 рублей. Это были большие суммы выплат для СССР того периода, они были сопоставимы с годовым заработком начинающего инженера. Нужно сказать, что все эти усилия приводили к оживлению вузовской науки, однако до самого распада советской системы этот сектор НИОКР не преодолел родовых болезней и не справился с ключевыми вызовами, о которых пойдет речь далее.
Вызовы в вузовской науке
Вызовы и проблемы развития вузовской науки в позднесоветский период хорошо осознавались экспертами и эксплицировались в публикациях того периода, хотя и не находились в центре внимания специалистов. Многие из этих проблем остались актуальны и в постсоветский период и даже стали острее в контексте неолиберальных реформ высшего образования в России. Эти вызовы преимущественно связаны со разрывом профессиональной роли исследователя и преподавателя в вузе, с недостатком финансирования вузовской науки и с бюрократизиро-ванностью и несистемностью управления вузовскими НИРами.
Перегрузка вузовских специалистов. С начала 1970-х гг. появлялись первые признаки стагнации системы высшего образования: вузы сосредоточились на массовом обучении новых инженеров, а лабораторная база постепенно деградировала. Преподаватели вузов почти все время тратили на преподавание, что ограничивало их участие в исследовательской работе. Как уже говорилось, на правительственном уровне было понимание этой проблемы, и посредством различных мер пытались стимулировать научно-исследовательскую работу в вузах, допуская даже квазирыночные механизмы заказного финансирования в виде заключения прямых договоров на НИР между командами ученых и организациями-заказчиками.
Отмечались дефицит рабочего времени у сотрудников вузов для участия в научных исследованиях и плохая материально-техническая база: «Подавляющую часть рабочего времени у научно-педагогических работников отнимает учебный процесс и лишь 15-30 % (по данным отдельных обследований) — научная работа»; «уровень материальной обеспеченности вузовских исследований в среднем уступает аналогичному показателю в академическом и отраслевом секторах» ( Варшавский, Миндели, Салтыков , 1984, с. 27). Г. А. Быковская обращала внимание на парадоксальную ситуацию, когда на словах руководство страны и профильных министерств говорило о значимости вузовской науки при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, однако, несмотря на принимаемые постановления и другие меры организационного стимулирования, все равно «основные средства шли на развитие академической науки, на создание новых научно-исследовательских институтов» [ Быковская , 2003, с. 17], тогда как в вузах исследования относительно успешно развивались в «хоздоговорных» формах, т.е. с «опорой на собственные силы» и ресурсы, без системного подхода к тематике НИОКР. Тем не менее с помощью различных постановлений в 1960-1970-е гг. были предприняты меры по стимулированию сотрудников вузов активнее участвовать в НИР. Например, в «1967 г. было установлено, что профессора и преподаватели высших учебных заведений за разработку и внедрение новой техники могут премироваться за счет централизованных фондов соответствующих министерств» ( Лахтин , 1990, с. 73). Это привело к экстенсивному росту научных подразделений внутри вузов: «к концу 1977 г. в вузах страны насчитывалось уже более 540 проблемных и 770 отраслевых лабораторий» (Там же, с. 74), хотя малоформатная «хозрасчетная наука» продолжала доминировать.
В целом профессиональная роль советского преподавателя вуза сильно ограничивала его возможности для погружения в научно-исследовательскую деятельность. Уже тогда эксперты отмечали, что «специфика работы преподавателя включает жесткое регламентирование учебных занятий, неравномерность рабочей загрузки в течение года не позволяет им в полной мере включаться в научные исследования» (Хоздоговорные научно-исследовательские работы..., 1982, с. 69). Вузам предлагалось сосредоточиться на «выполнении теоретических и поисковых прикладных заказных исследований», что отдаляло их от участия в инновационном развитии промышленности (Там же). Многочисленные попытки сбалансировать занятость преподавате- лей так, чтобы оставить им больше времени на НИР, фактически не приводили к успеху: в середине 1970-х гг. лишь пятая часть бюджета рабочего времени преподавателей была посвящена науке [Грибовский, Дежина, 2023, с. 342].
Недостаток финансирования. Обращалось внимание на недостаточный уровень финансирования вузовской науки: в первой половине 1980-х гг. «объем затрат на проведение НИОКР в вузах составлял около 7 % от общих расходов на науку» ( Варшавский , Миндели , Салтыков , 1984, с. 23), а по некоторым данным этот объем вырос до 14 % [ Быковская , 2003, с. 15], тогда как отраслевой сектор (в первую очередь НИИ) забирал до 85 % этих средств ( Варшавский , Миндели , Салтыков , 1984, с. 26). Количественный рост вузовской науки в 1965–1970-х гг. «происходил на фоне общего снижения относительной доли расходов на высшую школу. Отношение этих расходов к национальному доходу страны с 1950 по 1981 г. уменьшилось вдвое ‒ с 1,6 до 0,8 %» ( Лахтин , 1990, с. 74).
Как уже говорилось, в позднесоветских мемуарах и других эго-документах [ Зарецкий , 2021] относительно редко встречаются развернутые описания организации НИР в вузах того времени. С этой точки зрения ценным представляется свидетельство А. В. Давыдова (1938 г.р.), инженера-геофизика, который после многих лет работы на производстве во второй половине 1970-х гг. перешел в Свердловский горный институт на преподавательские позиции. Интерес к практической работе и потребность в дополнительном заработке стимулировали его активность в качестве руководителя НИР и хоздоговорных работ.
А. В. Давыдов в своих мемуарах также пишет об относительно низком уровне оплаты труда преподавателей (особенно на низших уровнях иерархии) и лаборантов вузах, из-за чего многие из них «работали по совместительству на хоздоговорах в НИСе института (научноисследовательском секторе), где могли получать еще полставки инженеров или научных сотрудников» ( Давыдов ). Начав с преподавательской ставки в 142 рубля5 в 1978 г. работу в вузе, автор воспоминаний быстро защитил диссертацию и активно стал вовлекаться в хоздоговорные проекты. После защиты диссертации в 1980 г. А. В. Давыдова привлекли к разработке новой ядерно-геофизической аппаратуры на базе кафедры, где работал руководитель НИР. Финансирование было, по мнению автора мемуаров, относительно скромное – «обеспечивалось на 5 лет по 20 т. руб. в год» ‒ и позволило «содержать небольшую группу с двумя постоянными штатными единицами» (геофизик и радиоконструктор) (Там же). Научные результаты работы оцениваются автором как успешные: «постоянно докладывались на семинарах и конференциях, было опубликовано более 30 статей, получено 20 авторских свидетельств» (Там же).
Отсталая материально-техническая база. Во-первых, экспериментальная и лабораторная база была несовершенной, что «сдерживало дальнейшее развитие хоздоговорных исследований, повышение их эффективности» (Хоздоговорные научно-исследовательские работы…, 1982, с. 17). Многие вузы не имели современного оборудования для прикладных научных исследований по заказу промышленности: в 1980-е гг. «заявки вузов на научное оборудование удовлетворялись на 10‒15 %, а его обновление составляло всего 1,5‒2 % в год» ( Лахтин , 1990, с. 77).
В своих мемуарах А. В. Давыдов отмечает не лучшее состояние материальнотехнической и лабораторной базы вуза, куда он пришел работать, что не позволяло проводить исследовательские работы на современном уровне: «Мебель и оборудование аудиторий были топорно-самодельными, техническая база учебного процесса отставала от современного уровня даже отечественной промышленности лет на 5–10 и обновлялась в основном бесплатной “милостью” производственных организаций, где работали наши выпускники, и техникой хоздоговорных работ НИСа, приобретенной за счет заказчиков» ( Давыдов ).
Это свидетельство расходится с мифом о процветании высшей школы в позднем СССР и отчасти подтверждается даже более ранними отзывами. В частности, известный ученый-механик С. П. Тимошенко после долгих лет жизни в эмиграции в США в 1958 г. смог посетить несколько ведущих инженерных вузов и факультетов в Советском Союзе. По результатам своей поездки он опубликовал книгу, где в целом высоко оценивает уровень советского инженерного образования, однако отмечает не лучшее состояние учебных зданий и лабораторий. Например, после визита в ЛИИЖТ (Ленинградский институт инженеров путей сообщения, се- годня ‒ Петербургский государственный университет путей сообщения) он покидал «свою AlmaMater со смешанным чувством», так как «стало больше порядка и дисциплины, но старые здания обветшали и содержатся неудовлетворительно. Число студентов утроилось, и теснота в лабораториях особенно заметна. ˂…˃ лаборатории испытания материалов добавлены некоторые новые машины, но освещение настолько плохое и теснота столь велика, что их трудно использовать» (Тимошенко, 1997, с. 54). Конечно, инвестиции в строительство корпусов и кампусов вузов в СССР были значительны, однако они всегда опаздывали за взрывным ростом численности студентов и расширением номенклатуры специальностей, особенно в 1950–1970-е гг.
Разрыв между разработками и внедрением . Узким местом НИР в СССР было внедрение результатов прикладных исследований в промышленность. Советские эксперты и современные исследователи признавали, что волокита и нежелание предприятий обновлять продуктовые линейки были серьезными барьерами для внедрения новых изделий, материалов, продуктов в производство. Плановая экономика индустриальной эры ориентировалась на выпуск больших объемов стандартизированной продукции без изменений. Формально внедрение результатов научно-исследовательской работы понималось как «директивное введение в действие и функционирование (эксплуатация) освоенного и принятого в установленном порядке рабочего варианта внедренного объекта или системы» (Организация работы…, 1983, с. 6). До самого распада СССР проблему интеграции НИОКР и производства решить не удалось, и после того, как начались рыночные реформы, научно-исследовательский сектор стал первой жертвой радикальных сокращений финансирования, закрытия центров и массовых увольнений.
Причинами усиливавшегося разрыва между НИОКР и внедрением были и межорганизационные административные барьеры, очень длинный (и далеко не всегда успешный) путь от создания опытных образцов изделий до их промышленного производства, отсутствие взаимопонимания между разработчиками и производителями, различные цели у исследовательских центров и промышленных предприятий. Это серьезно тормозило процесс трансфера научнотехнических инноваций в промышленное производство. Советское руководство не оставляло попыток организовать плотное и результативное взаимодействие между наукой и производством. Для этого создавались новые управленческие структуры с большими полномочиями (Госкомитет по науке и технике СССР), делались дополнительные инвестиции в сектор НИОКР, предприятиям давались определенная свобода действий и возможность заказывать прикладные научно-исследовательские работы в вузах на хоздоговорной основе.
В воспоминаниях вузовского преподавателя А. В. Давыдова отмечается, что полученные его группой НИОКР не были в полной мере внедрены в производство, за исключением заимствования «отдельных решений типовых узлов, в основном для скважинных приборов» ( Давыдов ). Причины этого разрыва между НИОКР и промышленным воплощением банальны для позднего советского периода: внедрение новых разработок в производство требовало модернизации технологического процесса, а сами приборы стоили дороже, тогда как промышленность не справлялась с выпуском уже имеющихся. В раннюю перестройку НИР А. В. Давыдова была закрыта в том числе из-за ревности профильного НИИ, которое не могло позволить внедрение разработок маленького коллектива вузовских работников, поскольку считало НИОКР в этой сфере исключительно собственно прерогативой.
Бюрократизация. Вузовская администрация воспринимала работу по организационной и административной поддержке прикладных научных исследований в качестве дополнительной утомительной нагрузки, и исследователи тратили много времени и сил на борьбу с бюрократическими барьерами. К тому же юридический статус и пути финансирования прикладных заказных исследований (хоздоговорных работ) был неясен для юридических и финансовых служб вузов, которые опасались нарушений законодательства и тоже тормозили эту деятельность: «Еще много нарушений в финансовых и иных вопросах оформления договоров и соответствующей документации, включая определения стоимости работ, составления бюджетов прикладных исследований, привлечения внешних сотрудников на непостоянную занятость» (Хоздоговорные научно-исследовательские работы…, 1982, с. 18). Даже введение должности проректора по научной работе в многих вузах после постановления Совета министров 1959 г. не решило проблемы управления этой деятельностью [Грибовский, Дежина, 2023, c. 321].
«Мелкотемье» . Так называемое «мелкотемье» – «разработка незначительных в научном плане тем» ‒ при малых ресурсах было проблемой вузовских исследований, с которой боролись через тематическое укрупнение, что приводило к выхолащиванию уникальности вкладов, сделанных отдельными исследователями и малыми группами [Там же, с. 327–328]. Многие прикладные НИРы имели незначительные бюджеты, работа над ними распыляла усилия исследователей, и результаты были минимальными: «Научно-исследовательская работа складывается стихийно, содержит в себе темы мелкие, дробные, малоактуальные» (Хоздоговорные научноисследовательские работы…, 1982, с. 20).
Оценивание результативности вузовских НИР . Несмотря на социалистическую плановую экономику, власть была почти одержима «экономической эффективностью» любых управленческих решений, технических инноваций и изменений в промышленности. Результаты НИР также должны были быть оцененными в показателях экономического эффекта, под которым понималась «количественная характеристика экономии капитальных вложений, материальных, энергетических и трудовых ресурсов, достигаемых в результате реализации результатов НИР и являющихся следствием организационно-технических преимуществ от внедрения или использования самой разработки или элемента системы» (Организация работы…, 1983, с. 9). Почти каждый отчет о НИР в вузах 1970–1980-х гг. содержал параграф с подсчетом экономического эффекта от внедрения результатов исследовательской работы. Нередко прямую выгоду для промышленности и экономики было трудно подсчитать, поэтому эти расчеты были умозрительными. В дипломных проектах выпускников инженерных вузов требовалось экономическое обоснование их разработки, это требование чаще всего выполнялось формально, так как экономическая грамотность советских инженеров была на невысоком уровне.
Уже с конца 1960-х гг. эксперты констатировали, что развитие доказательной оценки эффективности научно-исследовательской работы в университетах сдерживалось рядом причин. Во-первых, говорилось об «отсутствии типовой методики оценки эффективности НИР» (Методические положения…, 1975, с. 3). Потребность в стандартизации и типизации всех процессов управления была страстью позднесоветского периода. При этом типизация оценивания эффективности научных разработок кажется утопической идеей, так как различные типы научных разработок имеют разный потенциал внедрения в промышленность и экономику: некоторые остаются заделом на будущее в течение многих лет, чтобы потом стать частью практической работы. Во-вторых, констатировалось отсутствие нормативно-справочной базы для проведения расчетов по оценке результативности научно-исследовательской работы в вузах. Логика «типизации» всего и здесь работала: ожидалось, что, по аналогии с стандартизированными (но не всегда удобными в использовании) строительными нормами и правилами (СНИПами), новые универсальные справочники стоимости работ по научно-исследовательской деятельности будут разработаны и внедрены. В этих справочниках могли бы быть учтены многие показатели: затраты труда и времени, материальных ресурсов и финансовых ресурсов, что, по мнению авторов этой идеи, позволило бы сделать оценивание эффективности НИОКР прозрачным (Там же, с. 4).
В Московском высшем техническом училище (МВТУ) им. Баумана группа авторов подготовила путеводитель по расчету экономической эффективности научно-исследовательской работы в советском вузе. Эта оценка содержала несколько типов показателей: «показатели накопления информации» (различные публикации от тезисов научных конференций до монографий), «показатели признания работы» (рейтинг цитируемости работы, получение патентов, победы на конкурсах и т.п.), «показатели повышения квалификации научно-технических кадров» (докторские диссертации, вовлечение аспирантов), «показатели новизны и значимости результатов НИР» (оценка перспектив внедрения результатов исследования) (Там же, с. 16). В 1976 г. Научно-исследовательский институт проблем высшей школы при Министерстве высшего и среднего образования СССР опубликовал брошюру «Анализ систем показателей научно-исследовательской работы вуза методом экспертных оценок» (Анализ…, 1976). Эта методика была подготовлена в сотрудничестве специалистов двух лидеров советского инженерно- технического образования – МИФИ и МВТУ им. Баумана. В брошюре описывается метод измерения результатов научно-исследовательской работы вузов на основе анкетного опроса экспертов по нескольким десяткам показателей. Эти показатели были сгруппированы так же, как в брошюре МВТУ им. Баумана, но обращение к экспертам должно было внести дополнительную глубины и реалистичность оценок научно-исследовательской работы вузов, не сводя их только к жестким количественным измерениям.
Несмотря на попытку приведения всех результатов научно-исследовательской работы к измеримым количественным показателям, авторы этой брошюры отмечают, что научная работа не поддается тотальному планированию и алгоритмизации. По мнению авторов брошюры из МВТУ им. Баумана, для фундаментальных и поисковых исследований, связанных с производством нового научного знания, «экономические критерии совершенно не приложимы» (Методические положения…, 1975, с. 47), хотя логика социалистического планирования была имплементирована в сферу вузовской НИР через многоступенчатую систему планов НИР ‒ от уровня отдельного преподавателя и кафедры до уровня всего вуза [ Грибовский , Дежина , 2023, c. 326–327].
Заключение
Анализ ситуации с вузовской наукой в позднесоветское время показывает противоречия управления и практик НИР, реализуемой в системе высшего образования. Несмотря на экстенсивный рост сектора отраслевых НИИ в 1950‒80-е гг., он показывал недостаточный уровень продуктивности, и уже с конца 1960-х гг. руководство страны и профильные ведомства озаботились стимулированием научно-исследовательской работы в вузах. Принимались меры институциональной поддержки вузовской науки – от выделения дополнительных ресурсов и преференций до подталкивания вузов к созданию в своих структурах дополнительных подразделений, вовлеченных в научно-исследовательскую работу, в том числе в сотрудничестве с промышленными предприятиями и НИИ. Вузовская наука была таким же значимым объектом плановой координации, как и в целом система управления НИОКР в СССР [ Орлова , 2023].
Принимаемые меры по координации вузовской науки заставляли бюрократию активизироваться, однако нередко административные усилия сводились к появлению дополнительных подразделений с ориентацией на НИР, но без должного финансирования и кадровой основы, поскольку преподаватели вузов почти все свое рабочее были заняты обучением студентов.
Формой отчетности для таких подразделений становилась так называемая «хоздоговорная наука» ‒ выполняемые по заказу предприятий НИРы, отчетные результаты по которым в большинстве случаев завершали свою жизнь в заводских и вузовских архивах. С этим связано второе важное противоречие в оценке продуктивности вузовских НИР. Они были той же жертвой бюрократизации и разрыва между сегментом НИОКР и производством, как и отраслевые НИИ: можно сказать, что, подобно «бумажной архитектуре», в 1970–1980-е гг. все больше было «бумажных НИР», которые в лучшем случае доходили до стадии опытных образцов, но чрезвычайно редко и с большим опозданием внедрялись в промышленное производство.
Преподаватели вузов были заинтересованы в участии в НИР, поскольку это открыло им возможности карьерного роста через защиту диссертаций [ Грибовский , Дежина , 2023, c. 339– 340], в которых (особенно на соискание ученой степени в области технических наук – основной инженерной специальности) требовались формальные сведения о практическом применении или внедрении научного результата.
Вузовская наука постепенно формировала полузамкнутый цикл научноисследовательских работ, в который поступали ограниченные ресурсы, однако научные и прикладные результаты оставались преимущественно в академическом поле, не добираясь до производства, или отражали сложившиеся «административные рынки» [ Кордонский , 2006], включавшиеся неформальные связи заведующих кафедр, ректоров с главами НИИ и промышленных предприятий. Условно говоря, все помогали друг другу производить удобную отчетность по реализации показателей НИОКР.
Список литературы «Третий сектор»: вызовы и потенциал вузовской науки в инженерно-технической сфере позднего СССР
- Анализ систем показателей научно-исследовательской работы вуза методом экспертных оценок. М.: НИИВШ, 1976.
- Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика. М.: Экономика, 1989.
- Варшавский А.Е., Миндели Л.Э., Салтыков Б.Г. Научный потенциал страны. М.: Знание, 1984. Вашкевич Н.П. Кафедра вычислительной техники: к 60-летию со дня основания. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009.
- Давыдов А.В. Мемуары работающего пенсионера [Электронный ресурс]. URL: https://proza.ru/2004/01/26-96 (дата обращения: 1.12.2023).
- Зархин Б.С., Ильюшенко И.А. Организационно-экономические факторы повышения эффективности развития и использования базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленности края // Пути повышения эффективности научных исследований и связи науки с производством. Красноярск, 1978.
- Кугель С.А., Никандров О.М. Молодые инженеры: социологические проблемы инженерной деятельности. М.: Мысль, 1971.
- Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. Методические положения определения эффективности научно-исследовательских работ в вузе / под ред. В.И. Постникова, Ю.Н. Мымрина; МВТУ им. Баумана. М., 1975.
- Организация работы в технических и технологических вузах по вопросам внедрения, технико-экономического анализа и оценки прикладных НИР: метод. указания / М-во высш. и сред. спец. образования СССР. М., 1983.
- Тимошенко С.П. Инженерное образование в России. Люберцы: ПИК ВИНИТИ, 1997. Хоздоговорные научно-исследовательские работы в педагогических институтах РСФСР: метод. рекомендации по организации и проведению хоздоговорных научно-исследовательских работ кафедр педагогических институтов Российской Федерации / М-во просвещения РСФСР. М., 1982.
- Балацкий Е.В. Истощение академической ренты // Мир России. Социология. Этнология. 2014. № 23(3). С. 150-174.
- Быковская Г.А. К вопросу о государственной научно-технической политике в СССР в 50-80 годы // Вестник Самар. гос. аэрокосм. ун-та им. акад. С.П. Королева (нац. исслед. ун-та). 2003. № 2. С.12-18.
- Васильева З.С. Сообщество ТРИЗ: логика и этика советского изобретателя // Этнографическое обозрение. 2012. № 3. С. 29-46.
- ГрэхэмЛ. Очерки истории российской и советской науки. М.: Япус-К, 1998.
- Долгова Е.А., Стрельцова Е.А. Наука в СССР: о чем говорит статистика? Инфографический альбом. М.: ИЦ РГГУ, 2023.
- Зарецкий Ю.П. Эго-документы советского времени: термины, историография, методология // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2021. Т. 137, № 3. С. 184-199.
- Кордонский С.Г. Рынки власти: административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006. 240 с.
- Кузьминов Я.И., Семенов Д.С, Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8-63.
- Грибовский М.В., Дежина И.Г., Долгова Е.А. [и др.]. Наука большой страны: советский опыт управления. М.: Изд-во РГГУ, 2023. 629 с.
- Орлова Г.А. Оттепель научно-технической координации в СССР // Социология науки и технологий. 2023. Т. 14, № 1. С. 106-134.
- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с.
- Berliner J. The Innovation Decision in Soviet Industry. Boston: The MIT Press, 1976. 574 р.
- Chankseliani M. What Happened to the Soviet University? Oxford: Oxford Academic, 2022. 193 р.
- Fedyukin I. Separation Between Higher Education and Research in the USSR: Myth or Reality? // Building Research Universities - Insights from Post-Soviet States / еds. M. Chankseliani, I. Fedyukin, I. Froumin. London: Palgrave, 2022. Р. 15-32.
- Graham L.R. Big Science in the Last Years of the Big Soviet Union // Osiris. 1992. No. 7. P. 49-71.
- Graham L.R. The Formation of Soviet Research Institutes: A Combination of Revolutionary Innovation and International Borrowing // Social Studies of Science. 1975. No. 5(3). Р. 303-329.
- Kochetkova E. Performing Inventiveness: Industrial and Technical Creativity in the USSR, 1950s-1980s // The Soviet and Post-Soviet Review. 2022. Vol. 49, no. 3. P. 249-273.
- Lovakov A, Chankseliani M., Panova A. Universities vs. Research Institutes? Overcoming the Soviet Legacy of Higher Education and Research // Scientometrics. 2022. Vol. 127. Р. 6293-6313.