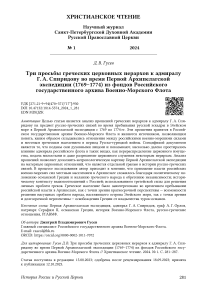Три просьбы греческих церковных иерархов к адмиралу Г. А. Спиридову во время Первой архипелагской экспедиции (1769-1774) из фондов Российского государственного архива военно-морского флота
Автор: Гусев Д.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (108), 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ прошений греческих иерархов к адмиралу Г. А. Спиридову на предмет русско-греческих связей во время пребывания русской эскадры в Эгейском море в Первой Архипелагской экспедиции с 1769 по 1774 гг. Эти прошения хранятся в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота и являются источником, позволяющим понять, каким образом складывались отношения между российскими военно-морскими силами и местным греческим населением в период Русско-турецкой войны. Спецификой документов является то, что поданы они духовными лицами и показывают, насколько далеко простиралось влияние адмирала российского флота в таких вещах, как перераспределение церковного имущества, подача милостыни и даже разрешение церковного служения некоторым иерархам. Анализ прошений позволяет дополнить антропологическую картину Первой Архипелагской экспедиции на материале церковных отношений, что является отдельной гранью в истории русско-греческих связей. В процессе исследования автор приходит к мнению, что признание власти российских военно-морских сил местным населением в Архипелаге сложилось благодаря политическому положению османской Греции и желанию греческого народа к обретению независимости; историческому контексту взаимоотношений с Россией; использованием третейской силы для решения личных проблем греков. Греческое население было заинтересовано во временном пребывании российской власти в Архипелаге, как с точки зрения краткосрочной перспективы - возможности решения насущных проблем народа, населяющего острова Эгейского моря, так с точки зрения и долгосрочной перспективы - освобождения Греции от владычества турок-османов.
Первая архипелагская экспедиция, адмирал г. а. спиридов, граф а. г. орлов, патриарх серафим ii, османская греция, история военно-морского флота, русско-греческие отношения, ргавмф
Короткий адрес: https://sciup.org/140305481
IDR: 140305481 | УДК: [271.21-9+94(470+571)"17"]:930 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_1_281
Текст научной статьи Три просьбы греческих церковных иерархов к адмиралу Г. А. Спиридову во время Первой архипелагской экспедиции (1769-1774) из фондов Российского государственного архива военно-морского флота
Традиция подачи милостыни странам Православного Востока существовала в России достаточно давно. В течение XVI–XVII вв. эта традиция даже оформилась в своеобразный формализованный ритуал, следуя которому практически любой проситель, благополучно добравшийся до Московского царства, имел все возможности получить необходимую ему сумму.
Изучая отношения между Москвой и Востоком, историк Н. Ф. Каптерев, разбирая многочисленные случаи подачи милостыни, заключает, что в течение двух столетий на благотворительность Востоку тратились громадные суммы, даже не подлежащие учету [Каптерев, 2008, 150]. Подобная щедрость была обусловлена главным образом тем, что идеологически Московское царство претендовало на покровительство всему Православному Востоку, т. к. являлось в то время единственным православным государством, не находящимся под зависимостью от мусульманских завоевателей. Милостыня являлась самым удобным способом поддержки Восточных Церквей — политически Русь, по мнению Каптерева, еще была недостаточно сильна, чтобы вмешиваться во внутренние дела Турции и отстаивать интересы христианских народов [Каптерев, 2008, 116].
Однако с XVIII в. ситуация кардинально меняется. С превращением России в империю начинается эпоха русско-турецких войн, и Порте уже нельзя было не считаться с политическими интересами российской короны.
Особенно это касалось Русско-турецкой войны 1768-1774гг., когда, помимо сухопутных боевых действий, впервые в российской истории парусный военный флот покинул воды Балтики, обогнул Европу и ударил по турецким военно-морским позициям со стороны Эгейского моря. Расчет Екатерины, кроме боевых действий, включал в себя помощь в подготовке и возможном осуществлении восстания греческого народа против Османской империи и утверждение влияния России в Восточном Средиземноморье [Гребенщикова, 2020, 316].
Русскую эскадру действительно встречали с большим воодушевлением в Архипелаге1, и в дальнейшем отношения с местным населением не испортились2, что позволило с 1770 по 1774 гг. сделать попытку организовать силами участников экспедиции независимое правление в Греции под протекторатом России, известное в историографии как «Греческое княжество».
В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота, среди материалов походной канцелярии адмирала Спиридова, сохранилось дело, носящее название «Документы, касающиеся местных церковных дел и духовенства» (РГАВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66). В нем отложилось несколько прошений представителей духовенства Вселенского патриархата к адмиралу Г. А. Спиридову, позволяющих немного лучше увидеть одну из граней этой военной экспедиции — роль командиров эскадры в церковных вопросах греческого населения.
В научной литературе эти прошения почти не известны, и, в лучшем случае, какое-то из прошений могло упоминаться мимоходом (см.: [Смилянская и др., 2011, 183; Герд, 2014, 21]).
В данной статье мы рассмотрим три прошения, входящие в это дело, и проанализируем их основные черты на предмет русско-греческих связей.
Прошения адмиралу Спиридову сброшюрованы в делопроизводственную тетрадь, на титуле которой имеется надпись «Фонд адмирала Спиридова 1773 г. № 66». Данная надпись говорит нам о том, что брошюровка происходила уже после того, как документы попали в архив, и объединены они по тематическому принципу.
Датировка документов ориентирована на содержание текста и дату одного из них — март 1773 г. Отсутствие в двух других прошениях сведений, позволяющих их более точно датировать, привело к тому, что общая датировка была обозначена 1773 г. Поэтому нужно иметь в виду относительную условность предлагаемой научносправочным аппаратом архива даты создания документов.
Так, например, третий документ, представляющий собой прошение бывшего патриарха Серафима II, судя по контексту событий, может быть отнесен к 1771 г.3
Все документы являются переводными подлинниками. Поскольку адресат прошений не владел греческим языком, были сделаны переводы на русский язык, затем эти переводы были заверены авторскими подписями просивших. В таком виде затем они и были представлены в канцелярию Спиридова.
Первое прошение Спиридову поступает от епископа острова Зиа (Зея; совр. о. Кея). Как мы можем узнать из текста документа, остров Зиа до назначения епископа был в весьма запущенном и бедном состоянии. На нем не было не только епископских домов, но и монастыри стояли практически пустые, с малым количеством монахов и клириков, без вещей, практически только стены. Епископ был назначен на остров Константинопольским патриархом Самуилом и прибыл туда в 1763 г. Для устройства епископии был избран монастырь св. мц. Мариам, опустелый, без единого монаха.
Новый епископ договорился с местными жителями об устройстве монастыря, заплатив из собственных средств 345 пиастров. В дальнейшем все шло благополучно: епископу удалось обновить монастырь, благоукрасить церковь, наладить монастырскую жизнь и даже поднять экономику — был насажен виноградник, заведен хутор для скота, подготовлены нивы для сеяния зерна. Через семь лет с начала служения епископа (т. е. в 1770 г.), по его изложению, монастырь уже был вполне преуспевающим. Как раз тогда и обратил свой взгляд на это место обидчик епископа — богатый грек Николай Ревелакий. По словам просителя, «Ревелакий с протчею своею роднею позавидевши оным монастирским добром и хотячи себе с тех прибель иметь, ученился будтобы он тому монастырь ктитор и якобы род его тот монастырь строил, чего никогда как вышеписано небыло» (РГАВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66. Л. 1). Дальше — больше: грек «азарнически и убийственною дерзостию», при поддержке некоторых местных жителей и родственников, выгоняет владыку из монастыря, а вместе с ним и монашествующих4.
Сопротивляться богатому греку было неразумно: вопрос был поставлен так, что за отказ покидать монастырь владыке пришлось бы заплатить своей жизнью. Произошло это событие 20 июля 1770 г. После ухода владыки монастырь пустовал недолго — грек Николай поставил туда своего родственника иеромонаха и стал пользоваться налаженной инфраструктурой монастыря себе на пользу.
Обиженный владыка с таким положением дел мириться не стал и отправился с жалобой к графу Алексею Григорьевичу Орлову, находившемуся в ту пору на о. Лемнос (Лимнос). Но застать графа там не удалось, поэтому дело осталось без исправления, и владыка вернулся к себе в епархию.
Грек Николай, узнав, что на него готовится жалоба Орлову, решил подействовать на владыку другим, более тонким способом, чем простое запугивание, — он явился к епископу с суммой в 233 пиастра и попытался взять расписку, чтобы владыка, взяв деньги, больше никогда и нигде названия монастыря не упоминал. Однако владыке этот подкуп, видимо, показался унизительным, и на такие условия он не пошел, даже когда на следующий день Николай с родней разбили окна и двери жилища епископа, пытаясь склонить его страхом взять расписку, так что епископу пришлось бежать.
Но долго скрываться он не мог, а Николай разнес слух, что лишит жизни бедного владыку, если тот не возьмет расписки. Не зная, что делать, владыка послушал совета окружавших его людей — взять расписку и предложенную сумму, что и было «учинено», а после искать правды у адмирала Спиридова.
Результатом этого и было составление данного прошения. Обратим внимание, как греки воспринимали российскую власть на островах: «А понеже ныне всемогу-щый Господь даровал нам християном новую радость, что здешние островы в том числе и Зио остров христолюбивой императрице, присягою подклонились, и находятся ныне под многомощною вашего высокопревосходительсва протекциею; того ради вашего высокопревосходительства всенижайше богомолческо прошу милостиво и многомощным своим указом повелеть озийским гражданам тот святыя мученицы Марии монастирь мне к монашескому пребыванию отдать» (РГАВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66. Л. 1 об.).
Стоит отметить, что юридически ни остров Зио, ни другие земли Архипелага не становились частью Российской империи, а были лишь под ее протекцией, или защитой. Поэтому важный вопрос состоит в том, насколько авторитетной была власть Спиридова, чтобы решать имущественные споры местного греческого населения.
Вероятнее всего, на наш взгляд, что военная эскадра местным греческим населением воспринималась как некая третейская сила, которая, временно контролируя острова, могла помочь тем или иным социальным группам в их интересах. Данное прошение больше вписывается в контекст многовековой подачи милостыни, а не выглядит только лишь как следствие прихода новой власти вместо турок.
Рассмотрим второе прошение.
Оно отличается от первого менее подробными деталями своего рассказа. В нем нет конфликта интересов — речь идет исключительно о несчастной судьбе архиерея, оказавшегося в затруднительном положении.
Епископ критского города Иеропетра чудом избежал «смертного посечения» от турок, но был лишен имущества и денег и затем обвинен неким Мусалимом Турчиным в шпионстве против турок («выставил знамено о собрании войска в помощь московиту») (РГАВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66. Л. 2 об.). Это обстоятельство вынудило епископа бежать в Порто Трио и просить графа Алексея Орлова о помощи. Орлов, по заверению владыки, в помощи не отказал и подал милостыню, а самого епископа отправил в Порт Аузо (совр. г. Ауза, о. Парос) с тем, чтобы местный архиепископ приписал его к епархии, однако архиепископского определения владыка не дождался и поэтому обратился уже к Спиридову со словами: «покорно богомолческо прошу, как над прочими архиереями сделали милосердие, так и надо мною богомолцем вашим учинить высокопатронское милостивое ж определение».
В третьем послании мы встречаем совершенно иной случай, показывающий, что адмирал мог разрешать не только церковно-политические вопросы, но и канонические.
В этом письме Спиридову идет речь о том, что епископу, ранее бывшему на патриаршем престоле (речь идет о бывшем патриархе Константинопольском Серафиме II), ныне в его положении указывают, что он без ведома нынешнего патриарха не может отправлять служб и собирать вокруг себя священников, даже о «благополучном здравии» российской императрицы и наследника. Впрочем, можно предположить, что включение в послание ссылки на императорское здравие могло использоваться лишь как веский аргумент просившего перед Спиридовым. При этом владыка считает, что подобным образом архим. Евстафий, указавший владыке на его непочтение, «случай ищет от нас покорения, через правила получать нам от него к служению благословение» (РГАВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66. Л. 3). Владыка утверждает, что удален был с престола «непоправилам святых», т. е. с каноническими нарушениями, поэтому это дает ему права действовать, не согласуясь с архимандритом. Свой довод архиерей подкрепляет грамотой от константинопольского Синода (которая при деле не сохранилась), и ждет резолюции от Спиридова.
Таким образом, перед нами уже несколько иное письмо, наглядно демонстрирующее достаточно широкий спектр полномочий адмирала Спиридова во время нахождения в Архипелаге. Канонический вопрос, изложенный в просьбе, вряд ли может входить в список полномочий адмирала, однако патр. Серафим II адресует послание именно ему. И судя по тому, что это и другие подобные послания тщательно сохранялись в делопроизводстве канцелярии, можно сказать, что они охотно принимались. Значит ли это, что адмирал в решении подобных вопросов мог быть более значительной фигурой, чем действующий Вселенский патриарх, в чьей компетенции как раз и находятся подобные церковные вопросы?
Объяснение можно найти в мысли Е. Б. Смилянской, что Орлов и Спиридов всячески способствовали прерыванию связей местного духовенства с Константинополем. Этого требовала логика построения Греческого княжества, независимого, по своему проекту, от Константинополя и в церковных делах. Вселенский патриарх в системе османского государства — фигура, наделенная не только церковной властью, но и также гражданской, распространявшейся на весь миллет, т.е. православное население империи5. Противостоять султану патриарх не мог, а управление церковными делами на островах, вышедших из-под контроля Порты, было необходимо.
Создавая автономное княжество, Спиридов попытался разграничить светскую и церковную власть на островах, но население, привыкшее жить по-другому, по мнению Смилянской, с трудом принимало предложения адмирала. «А потому, — заключает историк, — чтобы не вступать в конфронтацию с местными духовными пастырями... приходилось последовательно проводить идею независимости церковного суда, неподсудности духовенства суду светскому, сохранения всех прав собственности церквей и монастырей на движимое и недвижимое имущество» [Смилянская и др., 2011, 182–183]. С таким мнением в целом можно согласиться, заметив только, что тексты говорят нам о том, что греческое духовенство было вполне заинтересовано в сотрудничестве с командирами экспедиции и использовало их целиком в своих интересах. Другой вопрос — где пролегала грань между этими интересами и конфронтацией, насколько глубоко греки позволяли управлять ими.
К сожалению, на материалах Первой Архипелагской экспедиции мы с трудом можем уловить эту грань. В условиях войны и еще не оформившейся независимости Греции от власти турецких султанов Российская империя в лице посланной в Эгейское море эскадры была безусловным политическим авторитетом, т. к. на нее возлагались надежды на помощь в освобождении от турецкого владычества. Историк Греции Г. Л. Арш по этому поводу замечает: «Оживившиеся надежды греков на освобождение в результате военного выступления России против Турции нашли отражение и в обращениях видных представителей греческого общества к российской самодержице». Например, Евгений Булгари в своих речах прославлял Екатерину «от лица всей Греции» [Арш, 2013, 39].
В условиях стабильного мира ситуация могла уже стать абсолютно иной, но до этого момента было далеко. Восстание так и не состоялось6. Греки в то время еще не были готовы сплоченно сражаться, о чем писал А. Г. Орлов в своих письмах [Переписка, 1880, 254], оправдывая неудачу восстания, об этом же говорят и некоторые современные историки, например Г. А. Гребенщикова, которая заключает, что греки не торопились пополнять ряды русских солдат [Гребенщикова, 2007, 297–300].
При этом командиры эскадры воспринимались как вполне законные носители гражданской власти на островах во время противостояния с турками. Из текстов мы можем видеть, что командиры эскадр сами не вмешивались в церковно-административные дела местного населения, но принимали жалобы и могли существенно повлиять на ход того или иного дела. И в этом отношении заинтересованность между греческими элитами и российской властью была обоюдной.
По-видимому, решения командиров эскадры признавались всеми греками, т. к. просители добивались определений о себе, даже следуя с острова на остров за Орловым или Спиридовым. И хотя до нас не дошли тексты резолюций адмирала и дальнейшая история приведенных выше прошений, вполне можно считать по тону и косвенным указаниям, что в нередких случаях действия командиров эскадр были удовлетворительными для просителей, которые не исчерпывались с течением времени, а появлялись вновь и заранее благодарили адмирала словами: «как над прочими архиереями сделали милосердие».
Список литературы Три просьбы греческих церковных иерархов к адмиралу Г. А. Спиридову во время Первой архипелагской экспедиции (1769-1774) из фондов Российского государственного архива военно-морского флота
- РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-Морского Флота. Ф. 190. Оп. 1. Д. 66; Ф. 188. Оп. 1. Д. 93.
- Русская верность (2020) — «Русская верность, честь и отвага» Джона Элфинстона: Повествование о службе Екатерины II и об Архипелагской экспедиции Российского флота. М., 2020.
- Арш (2013) — Арш Г. Л. Россия и борьба Греции за освобождение: от Екатерины II до Николая I. М., 2013.
- Герд (2014) — Герд Л. А. Россия и православный Восток. Х — начало ХХ вв. СПб., 2014.
- Гребенщикова (2007) — Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в эпоху Екатерины II. СПб., 2007.
- Гребенщикова (2020) — Гребенщикова Г. А. Российский флот и дипломатия Екатерины II. Т. II: Секретные экспедиции Русского флота. СПб., 2020.
- Каптерев (2008) — Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку // Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. М., 2008. Т. I.
- Переписка (1880) — Переписка графа Н. И. Панина с графом А. Г. Орловым-Чесменским. 1770–1773 // Русский архив. 1880. Т. III (2).
- Смилянская и др. (2011) — Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. М., 2011.
- Тарле (1959) — Тарле Е. В. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1959. Т. 10.
- Улунян (1998) — Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. Конец XVII в. — 90‑е гг. XX в.: Курс лекций. М., 1998.