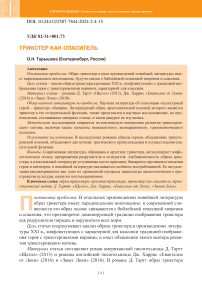Трикстер как спаситель
Автор: Турышева О.Н.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Русская трикстериада: герои и антигерои в зеркале времени
Статья в выпуске: 2 (27), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Образ трикстера в ряде произведений новейшей литературы имеет парадоксальное воплощение, будучи связан с библейской тематикой творения и спасения. Цель статьи - анализ образа трикстера в романах XXI в., конфликтующих с традицией изображения героя с трикстеровскими корнями, характерной для классики. Материал статьи - романы Д. Тартт «Щегол» (2013), Дж. Харрис «Евангелие от Локи» (2016) и «Завет Локи» (2018). Обзор научной литературы по проблеме. Научная литература об оппозиции «культурный герой - трикстер» обширна. Литературный образ, архетипической основой которого является трикстер в его созидательной функции, также представлен в научных исследованиях, но произведения, составившие материал статьи, в таком ракурсе не изучались. Методология исследования опирается на юнгианскую концепцию развития трикстеровского мотива, включая также элементы имманентного, компаративного, герменевтического подходов. Результаты исследования. В исследуемых романах образы героев, обладающих трикстеровской основой, объединяют два мотива: трагического происхождения и осуществления спасительной функции.
Образ трикстера, архетип трикстера, трикстер как спаситель, трикстеровский мотив, д. тартт, «щегол», дж. харрис, «евангелие от локи», «завет локи»
Короткий адрес: https://sciup.org/144163139
IDR: 144163139 | УДК: 82-31+801.73 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-2-4-15
Текст научной статьи Трикстер как спаситель
П остановка проблемы. В отдельных произведениях новейшей литературы образ трикстера имеет парадоксальное воплощение: в современной словесности его образ подчас связывается с библейской тематикой творения и спасения, что противоречит доминирующей традиции изображения трикстера как разрушителя порядка и нарушителя всех норм.
Цель статьи подразумевает анализ образа трикстера в произведениях литературы XXI в., конфликтующих с характерной для классики традицией изображения героя с трикстеровскими корнями, и опыт объяснения такого вектора развития трикстеровского мотива.
Материал статьи составляют роман американской писательницы Д. Тартт «Щегол» (2013) и романы английской писательницы Дж. Харрис «Евангелие от Локи» (2016) и «Завет Локи» (2018). В романе Д. Тартт образ трикстера выписан в реалистической манере, а в романном цикле британской писательницы - в манере, свойственной для фэнтези. Однако в обоих вариантах предпринимается вышеописанное переосмысление образа героя, архетипической основой которого является трикстер. Этот парадокс особенно обострен в романах Дж. Харрис, в которых в образе евангелиста и Спасителя изображается древнескандинавский бог обмана Локи.
Методология исследования синтетична. Включая в себя элементы имманентного, компаративного, герменевтического подходов, она в первую очередь базируется на юнгианской концепции развития трикстеровского мотива в мифологии от первобытно-архаических времен до христианской эпохи. В работе «О психологии образа трикстера», посвященной анализу динамики этого мотива, Юнг писал и о близости образа трикстера к образу Спасителя: «Трикстер - предшественник Спасителя» [Юнг, 1999, с. 276]. В контексте этой работы очевидно, что Юнг имеет в виду определенный этап в развитии мифологического сознания, когда образ трикстера подвергается «окультуриванию»: трикстер превращается в культурного героя. Первоначально же, на первобытно-архаической стадии мифологического осознания, трикстер – это «космическое существо божественноживотной природы», не наделенное разумом и от человека отличающееся бессознательностью: «Самая главная и бросающаяся в глаза его черта - его бессознательность», - подчеркивает Юнг [Юнг, 1999, с. 276]. На этой стадии его близость к образу Спасителя связана с тем, что он в мифе подвержен «всем видам мучений», он «ранен, и сам наносит раны», а это условие трансформации образа трикстера в Спасителя в будущей мифологии и ритуальной культуре христианства: «Только страдающий может отвести страдание» [Юнг, 1999, с. 266]. И далее: «Если мы рассмотрим <…> демонические черты, присущие Яхве в Ветхом Завете, мы найдем в них немало того, что напомнило бы нам о непредсказуемом поведении Трикстера, об устраиваемых им бессмысленных оргиях разрушения и причиняемом самому себе страдании – вместе с его постепенным превращением в спасителя и одновременным очеловечиванием» [Юнг, 1999, с. 267].
Это «преобразование бессмысленного в осмысленное» происходит на следующем этапе развития трикстеровского мотива, когда «вместо того, чтобы действовать в дикой, необузданной, глупой и бессмысленной манере, он постепенно меняет свое поведение на довольно полезное и понятное» [Юнг, 280], теряя свои злые качества и рассеивая «мир первобытной тьмы». Изображая трикстера, мифология этого «цивилизационного» этапа, как пишет Юнг, вероятно, имея в виду монотеизм, «намекает на фигуру Спасителя», и «это утешительное предвестие <_> означает, что какая-то катастрофа произошла, но была понята сознанием. Надежда на Спасителя может родиться только из недр несчастья <…>. В случае с отдельным индивидом проблема, вызванная тенью1, решается на уровне анимы, то есть через отношения. В истории коллектива, как и в истории
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
индивида, все зависит от развития сознания. Оно постепенно дает освобождение от заключения в бессознательном и поэтому является как носителем света, так и исцеления. Как в своей коллективной, мифологической форме, так и в форме индивидуальной тень содержит внутри себя семя энантиодромии, превращения в собственную противоположность» [Юнг, 1999, с. 286]. Таким образом, размышляя об образе трикстера как предшественнике образа Спасителя, Юнг утверждает такую его универсальную черту, как страдание, которое при последующем развитии трикстеровского мотива становится условием его очеловечивания и обретения статуса исцелителя и спасителя, что, в свою очередь, в архетипической концепции символизирует превращение бессознательной стихии в осознание себя, мира и его катастрофического состояния. Так, по Юнгу, образ спасителя (и в т.ч. библейского) рождается из языческого образа трикстера.
Эту логику энантиодромии (трансформации образа трикстера – безумного демона и разрушителя – в творца и Спасителя) мы и встречаем в названных произведениях новейшей литературы.
Обзор научной литературы по проблеме . Научная литература об оппозиции «культурный герой – трикстер», к которой очевидно восходит юнговская идея превращения трикстера в Спасителя, обширна. Достаточно широкое освещение получил вопрос не только о столкновении данных архетипов, но и о сходстве (а подчас и тождестве) культурного героя и трикстера. Трикстер в его принадлежности к мифологической традиции устойчиво рассматривается как амбивалентное существо: не только вредитель, но помощник героя (Е.М. Мелетинский), посредник, ответственный за коммуникацию между мирами и их обитателями (К. Леви-Стросс), созидатель, осуществляющий свою функцию через разрушение (Ю.М. Лотман). Литературный образ, архетипической основой которого является трикстер в его созидательной функции, также представлен в научных исследованиях [Липовецкий, 2009; Ковтун, 2022; 2023], однако произведения, составившие материал статьи, в таком качестве (как романы о превращении трикстера в Спасителя) не изучались.
Результаты исследования. Роман Д. Тартт «Щегол» в жанровом плане представляет собой роман воспитания: в основе его сюжета лежит история становления Теодора Деккера, важнейшим элементом которой являются его взаимоотношения с героем, архитипической основой образа которого является трикстер. Это второй главный герой романа Борис Павликовский. Он, как и Тео, также имеет опыт страдальческого взросления: рос без покончившей с собой матери, менял города и страны в связи с профессиональной деятельностью отца, жестоко страдал от его побоев и полного отсутствия заботы и заинтересованности со стороны взрослого мира. Его отличают необузданный темперамент, пограничное поведение и готовность «хохоча, отдаться священному безумию» [Тартт, 2015, с. 817].
В предыдущем исследовании [Турышева, 2020] мы обратили внимание на важную деталь в образе Бориса: Д. Тартт привязывает его рождение к сибирскому городу Новоаганску. В соответствии с нашей гипотезой, ссылаясь на сибирские корни Бориса, Тартт вводит в рецептивный контекст своего романа сибирский миф, выработанный русской литературой. В русской литературе, согласно множественным филологическим реконструкциям ([Шатин, 2016; Рыбальченко, 2004; Собен-ников, 2004; Ташлыков, 2004; Эртнер, 1999]), образ Сибири обладает мифологическими чертами «края лиминальной полусмерти» [Тюпа, 2002, с. 28], «мест[а] физических и духовных страданий <…> пройдя через которое, <…> герой повторяет путь Христа: от рождения, через смерть (условную) и ад к воскресению» [Габдуллина, 2015, c. 104]. Думается, что указание на сибирское происхождение Бориса актуализирует семантику инициации главного героя романа: Борис, образ которого в романе символически ознаменован причастностью к стране мертвых, изображен как помощник и проводник Тео в его инициальной истории. Думается также (и эту мысль мы высказываем впервые), что эта деталь поддерживает триксте-ровскую природу образа Бориса: он, подобно многим мифологическим трикстерам, родом из ада, из иного, потустороннего мира, что наделяет его образ сакральным началом, очевидно, связанным с обладанием сакральным знанием.
В истории Теодора Борис фигурирует дважды. В рамках первого (техасского) эпизода он усугубляет смерть героя, приобщая его к алкоголю и наркотикам, вовлекая в воровство и обворовывая его самого (крадет утаиваемую им картину Карела Фабрициуса). Но с другой стороны, Борис поощряет Тео к принятию важных решений, вооружив его верой в дружбу.
Второй крупный эпизод взаимоотношений Тео с Борисом завершается трагически: Борис в намерении вырвать картину Фабрициуса из рук мошенников превращает Тео в соучастника преступления, вынуждая его к невольному убийству, переживание которого подталкивает героя к намерению добровольно уйти из жизни. Однако преодолеть это намерение герою удается тоже благодаря Борису. В финале романа Борис выводится как непосредственный спаситель героя. Готовясь свести счеты с жизнью, Тео признается себе в бессмыслице человеческого существования, которую он сам усугубил своими преступлениями. Однако явившийся Борис рассеивает мрак: он рассказывает, как вернул картину властям, при этом называя ее спасителем именно Теодора. Важно, что этот эпизод вписан в рамки рождественского хронотопа, так символизируя преодоление работы смерти в сознании Тео.
Более того, Борис внушает Тео ту самую логику энантиодромии, о которой писал Юнг, размышляя о превращении образа трикстера в последующей перспективе в свою противоположность – спасителя и исцелителя. Не только образ Бориса в изображении Тартт подчиняется этой логике, она лежит и в основе идеи самого героя о том, что противоречивость жизни – это ее онтологическое качество, а плохое может привести к хорошему. Эту идею Борис излагает в разговоре с Тео о романе Достоевского «Идиот»:
Even the wise and good cannot see the end of all actions. Scary idea! Remember Prince Myshkin in The Idiot? <…> Myshkin ever did was good… unselfish… he treated all persons with understanding and compassion and what resulted from this
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
В рамках этой рождественской сцены и происходит возрождение героя: благодаря Борису Тео признает свой порок одномерного, исключительно трагического восприятия мира. В финале повествования герой, уже готовый было уйти из жизни, принимает ее противоречия, отказывается от страшных выводов о бессмысленности существования, не сходит с ума, признав в себе убийцу, и в конце концов отказывается «покидать мир». Более того, заряженный идеей Бориса о том, что «хорошее может явиться в… жизнь с очень черного хода» [Тартт, 2015, с. 814], а «печаль может сделать счастливым» [Тартт, 2015, с. 815], он начинает трудиться над искуплением своей вины. Искупление вины – символ принятия жизни, признание того, что она при всей своей жестокости не бессмысленна. Недаром рождественский хронотоп романа сменяется в финале хронотопом дороги: возрожденный герой отправляется в путешествие, знаменующее не только возмещение нанесенного ущерба, но и отказ от ухода из жизни, и начало этому возрождению положил Борис, архитипическую основу об раза которог о составляет трикстер.
Таким образом, в этом романе отношения героя с трикстером становятся основой нового мировоззрения: катастрофа, к которой был причастен трикстер, «была понята сознанием» героя (Юнг) через отношения с ним.
Юнг, переводя разговор о трикстере как мифологической фигуре в плоскость размышлений о структуре психики, пишет о трикстере как архетипе Тени. Конечно, образ Бориса вполне возможно рассматривать как манифестацию этого архетипа в истории Ребенка, находящегося в процессе индивидуации, архетип которого манифестирован в образе Тео Деккера. Но важно то, что преодоление катастрофического взгляда на жизнь и осознание своего места в ней (в терминологии Юнга, обретение Самости) происходит в романе благодаря преображению Тени-Трикстера в аниму героя, подталкивающую героя к преодолению ложного взгляда на мир и себя и исцеляющую его.
В романе британской писательницы Джоан Харрис «Евангелие от Локи» (2016) речь идет о роли Трикстера в истории, как говорит Юнг, «коллектива», переживающего катастрофу мирового масштаба. Это боги Асгарда. Роман представляет собой модернизированное по языку и стилю изложение основных мифов древнескандинавской мифологии по эддическим текстам от лица Локи – первого в европейской словесности бога лжи и хитрости. Предвосхищение христианства в древнескандинавских песнях ученые обычно связывают с мотивом первой божественной смерти – смерти светлого бога Бальдра, убитого слепым богом судьбы Хедом по коварному совету Локи и воскресшего после Рагнарека. Д. Харрис присваивает евангельское сообщение самому Локи, фактическому убийце Бальдра, к тому же воспротивившемуся возвращению Бальдра из царства Хель.
Герменевтическая проблема, которую задает этот роман, явственна: почему трикстеру присваивается благая весть и в чем она состоит. Однако при всей очевидности заданной автором загадки ответ на нее совсем не очевиден и поиск его требует особого внимания к отличиям, присвоенным Харрис Локи, по отношению к его эддическому образу.
Среди них важнейшее отличие: Локи сам называет свое повествование Евангелием, противопоставляя его «авторизированной», «официальной» (как он говорит) версии мифа, изложенной в «Прорицании вельвы» и в книге скальда Снорри Стурлуссона «Младшая Эдда». Он протестует против версии событий, изложенной в мифе, и ради достоверного рассказа о них создает новый жанр: Лока-бренна (в пер. с исланд. Факел Локи ). Слово «Локабренна», как сообщает Локи во введении, «достаточно грубо можно перевести как “Евангелие от Локи”» [Харрис, 2016, с. 12]. Каждая глава книги, именуемая уроком, открывается афористической локабренной, которая находит свое подтверждение в повествовательной части главы. В совокупности локабренны Локи транслируют трагическое мировоззрение, согласно которому мир, созданный богами Асгарда, глубоко несовершенен и потому обречен, а сами боги эгоистичны, порочны и агрессивны.
Однако думается, что благая весть от Локи вовсе не сводится к той нехитрой мудрости, которую Локи выражает в своих локабреннах и которые очень похожи на гномические строфы «Старшей Эдды», как называют поучения Одина
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
людям («Речи Высокого»). В отличие от «Речей Высокого», речи Локи замешаны не на божественном знании, а на обиде. Остановимся на ее содержании, чтобы вернуться к содержанию благой вести Локи.
В изложении Локи он, огненный демон из мира Хаоса, был приглашен в Асгард Одином, в соответствии с коварным планом которого Локи должен нести ответственность за нарушение правил и норм, когда Одину – их автору – будет выгодно их обходить. В этом плане Локи выведен как брат Одина по трикстерству и плутовству, что соответствует мнению медиевистов, трактующих Локи как демоническую ипостась Одина.
Присвоенная Локи роль трикстера в то же время стала источником бед и для него самого, и для богов. Боги его откровенно презирают за происхождение и плутовские проделки, а он сам лелеет мечту о мести богам, мечтая разрушить их единство и предать выстроенный ими Порядок Хаосу. Харрис подробно пересказывает эддические события, неотвратимо приблизившие Рагнарек, но мотивирует их оригинально: обидой, одиночеством, страданиями Локи и его ненавистью к богам. А Юнг, напомним, описывал страдание трикстера как обязательный элемент его очеловечивания и превращения в исцелителя.
О собственном очеловечивании говорит сам Локи, когда сетует на Одина: тот, воззвав Локи из Хаоса, наделил его человеческим телом и человеческой душой, «отравив [его] человечностью» [Харрис, 2016, с. 167]. А «человеческое, слишком человеческое» в ситуации оскорбления воспаляет обиду и желание мести: «В этом безумном мире, где одни боги пожирают других богов, всегда приходится как-то жить в ногу со временем. И в особенно мрачные эпохи, когда на смену свету приходит тьма, все народы начинают снова стремиться к огню. Огонь, что называется, никогда не выходит из моды. Во время войн, когда вокруг царит страх, именно огонь объединяет нас, собирает вокруг себя, источая тепло и тая опасность. Собственно, было вполне предсказуемо, что многие люди, отвернувшись от богов Асгарда, начнут поклоняться мне. Люди жгли свои книги, желая согреться у костра и отгородиться им от ночной темноты. А у меня появилось еще одно новое имя: Локи, Свет Приносящий. И – наконец-то! – ко мне стали относиться с должным уважением» [Харрис, 2016, с. 193].
В этом фрагменте мы встречаем новый библейский мотив: Локи, очевидно, сопоставляет себя с Люцифером, освещая его образом свой бунт против Одина и мира им созданного.
В финале, приложив все силы для разрушения мира асов, но не погибнув в битве богов и великанов, Локи обнаруживает себя погруженным в магический сон в «прихожей Хаоса», Темном мире, где он размышляет о пророчестве оракула о возрождении мира и циклическом движении времени. Эту изложенную в «Прорицании вельвы» версию Локи опровергает: «Забудем “авторизованную версию” предсказаний оракула. “Евангелие от Локи” не будет завершено, пока не исчезнет последняя искорка надежды. И я ждал. Ждал во тьме и мечтал, и видел сны, и думал про себя: Да будет свет. Да будет свет. Да будет…» [Харрис, 2016, с. 210]. Это высказывание Локи завершает повествование.
Очевидно, что Локи цитирует третий стих Книги бытия, где речь идет о сотворении мира: «И сказал Бог: да будет свет: и был свет». Интересно, что Локи и начинает свое Евангелие этой цитатой. Но во введении она выглядит как попытка предоставить публике верную версию событий, искаженных в мифе. В финале эта библейская цитата приобретает совсем иное звучание. Думается, что, цитируя слова иудео-христианского Бога, Локи выражает надежду на сотворение нового мира, где боги не уничтожают друг друга, но где правит единый Бог, что исключает распри и ненависть по определению. Может, вера в то, что Порядок и победа над Хаосом случится в монотеистическом варианте, и составляет благую весть Локи? Примечательно, что следующая книга Дж. Харрис называется «Завет Локи» (2018), это поддерживает высказанную герменевтическую версию. Впрочем, интерпретации, которая могла бы выявить единую художественную концепцию, «Завет Локи» поддается с трудом – ввиду сложного нагромождения событий, принадлежащих разным хронотопам. В основе повествования лежит рассказ о том, как Локи и другие боги после Рагнарека пытаются вернуть себе магическую силу и вернуться домой, восстановив Асгард, для чего им необходимо вникнуть в последнее пророчество Оракула. Таким образом, если в «Евангелии от Локи» тот выступал разрушителем Порядка, то в «Завете Локи» он пытается в союзе с другими богами Порядок восстановить – но в новом варианте.
Чтобы восстановить разрушенный мир, боги надеются вступить в контакт с Оракулом. Для этого они, потерявшие в битве с великанами обличие, воплощаются в телах людей ХХI в., используя для этой манипуляции компьютерную игру «Асгард» и мифическую реку Сновидений. В частности, Локи проникает в сон человека, который, называя себя Архитектором, в сновидении строит храм, способный утвердить Порядок в мире Хаоса и положить начало новому Золотому веку. Оказывается, что Архитектор – профессор университета Конца Света, чьим сознанием овладел Оракул – голова Мимира. Оракул и есть подлинный строитель храма, он пророчествует конец правлению богов и забвение их имен: их имена будут стерты из истории. Локи закидывает голову Мимира в реку Сновидений, освобождаясь от него. В финале он встречает девушку, которая подобрала брошенного в корзинке младенца, и воплощается в его тело. Все это происходит под появившейся в небе руной в виде креста. Так Локи надеется спрятаться от Одина и сохранить при себе прорицание Оракула. Пророчеством Оракула, которое вряд ли подлежит внятной интерпретации, и завершается роман. В нем идет речь и о таинственном творце нового Порядка, исполненном злобы, и о бесконечных войнах, в которые погрузится мир. Осуществлению этого пророчества и пытается помешать Локи.
Финал представляется более чем прозрачным: Локи отождествляется с Моисеем, который получит Божественный завет и передаст его людям. Таким образом, Локи по ходу повествования в рассматриваемой дилогии отождествляется и с Моисеем, и с Богом-Творцом, и восставшим против него Люцифером. С одной стороны, он презирает пророчество Мимира о конце правления эддических богов, с другой – обещает его передать Одину и твердит его, в-третьих, надеется на причастность к творению Порядка и «отделению света от тьмы».
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Обсуждение результатов . Выявление трикстеровской модели в образе второго главного героя романа Д. Тартт «Щегол» позволяет развернуть сравнение его образа с образом Локи, героя романов Дж. Харрис. При том что исследуемые романы принадлежат к разным нарративным и жанровым традициям, образы героев, обладающих единой архитепической основой, объединяют два мотива: мотив трагического происхождения трикстера и мотив осуществления спасительной функции (в истории героя или в истории, как пишет Юнг, коллектива): Борис предает Тео, но позднее спасает его (в контексте решаемого вопроса представляется немаловажным, что имя Тео с греческого означает «Бог»), Локи уничтожает языческий миропорядок, отвергает его возрождение, но мечтает о сотворении мира, освещенного светом единобожия и, значит, любовью, а не всеобщей ненавистью. В столь разных художественных версиях образа трикстера эти две важные характеристики: разрушительное и спасительное начала – совпадают (как парадоксальным образом совпадает сатанинская и божественная характеристики Локи). Метафора преодоления мрака в обоих произведениях ассоциирована с деятельностью героев-трикстеров в полном соответствии с мыслью Юнга о том, что очеловечившийся, прошедший через горнило страданий и освободившийся из тюрьмы бессознательного трикстер становится носителем света.
Заключение. Логика энантиодромии, наблюдаемая в динамике образа, восходящего к образу трикстера, очевидно господствовала в мифологическом сознании архаического периода его развития. Современная литература, обращаясь к архетипу трикстера, актуализирует именно эту логику превращения разрушителя в созидателя. Амбивалентность образа трикстера, в классической литературе уступившая место принципу бинарного противопоставления героя и антигероя, в новейшей литературе оказывается особенно востребованной. Ее актуализация, возможно, есть одно из проявлений процесса пересмотра аксиологического пространства культуры, начатого постмодернизмом в полемике с классической этикой и ее принципом противопоставления противоположных начал.
Список литературы Трикстер как спаситель
- Габдуллина В.И. Мотив смерти - воскресения в тексте Ф.М. Достоевского // Сюжетология и сюжетография. 2015. № 2. С. 101-108.
- Ковтун Н.В. Трикстер как герой нашего времени (На материале русской прозы второй половины ХХ-ХХ1 века). М.: Флинта; Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2022. 408 с.
- Ковтун Н.В. Трикстер как герой фронтира, или О механизмах выживания в ха-осе // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. 2023. № 22 (9). С. 120-133.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.
- Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 (100). С. 224-245.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.
- Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1982.Т.2.С. 25-28.
- Рыбальченко Т.Л. Мифологемы образа Сибири в русской прозе второй половины XX века // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: матер. Международной научной конференции (24-26 сентября). Иркутск, 2004 [Официальный сайт]. URL: http://mion.isu.ru/ pub/sbornik_Sib/ 6_l.html (дата обращения: 05.07.2023).
- Собенников A.C. Миф о Сибири в творчестве А.П. Чехова («Очерки из Сибири») II Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: матер. Международной научной конференции (24-26 сентября). Иркутск, 2004 [Официальный сайт]. URL: http://mion.isu.ru/pub/sbornik_Sib/5_8.html (датаобращения: 15.06.2023).
- Тартт Д. Щегол / пер. с англ. А. Завозовой. М.: Изд-во ACT, 2015. 827 с.
- Тартт Д. Тайная история / пер. с англ. Д. Бородкина, Н. Ленцман. М.: Иностранка, 2008. 704 с.
- Ташлыков С.А. Образ Сибири в древнерусской литературе II Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: матер. Международной научной конференции (24-26 сентября). Иркутск, 2004 [Официальный сайт]. URL: http://mion.isu.ru/pub/sbornik_Sib/5_8.html (датаобращения: 15.06.2022).
- Турышева O.K. Достоевский, Сибирь и русский человек в романе Донны Тартт «Щегол» II Quaestio Rossica. 2020. Т. 8, № 1. С. 119-131. DOI: 10.15826/ qr.2020.1.451. 63 с.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы II Сибирский филологический журнал. 2002. №1.С. 27-35.
- Харрис Д. Евангелие от Локи / пер. с англ. И. Тогоева. М.: Эксмо, 2016. 214 с.
- Харрис Д. Завет Локи / пер. с англ. И. Тогоева. М.: Эксмо, 2019. 214 с.
- Шатин Ю.В. Путешествие Нехлюдова в Сибирь К проблеме инициации II Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 11-15. DOI: 10.17223/18137083/55/2
- Эртнер E.H. Образ Сибири в русской литературе XIX века II Язык и литература: электронный журнал Тюменского государственного университета. 1999. № 6 [Официальный сайт]. URL: http://www.utmn.ru/frgf/No6/textl6.htm (дата обращения: 21.05.2005).
- Юнг К.-Г. О психологии образа Трикстера II Пол Радин. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. СПб.: Евразия, 1999. С. 265-286.
- Tartt D. The Goldfinch. Abacus, 2014. 864 p.