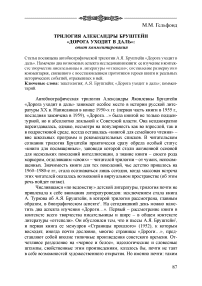Трилогия Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль»: опыт комментирования
Автор: Гельфонд Мария Марковна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Белые чтения – 2011 (избранные материалы) Секция текстологии и источниковедения русской литературы
Статья в выпуске: 1 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена автобиографической трилогии А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль». Намечено два возможных аспекта исследования книги: ее изучение в контексте творчества писательницы и литературы «оттепели»; составление развернутого комментария, связанного с восстановлением прототипов героев книги и реальных исторических событий, отраженных в ней.
Текстология, а.я. бруштейн, "дорога уходит в даль", комментарий
Короткий адрес: https://sciup.org/14914329
IDR: 14914329
Текст статьи Трилогия Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль»: опыт комментирования
Автобиографическая трилогия Александры Яковлевны Бруштейн «Дорога уходит в даль» занимает особое место в истории русской литературы XX в. Написанная в конце 1950-х гг. (первая часть книги в 1955 г, последняя закончена в 1959), «Дорога...» была книгой не только подцензурной, но и абсолютно лояльной к Советской власти. Она неоднократно переиздавалась, однако, несмотря на популярность как во взрослой, так и в подростковой среде, всегда оставалась «книгой для семейного чтения» -вне школьных программ и рекомендательных списков. В читательском сознании трилогия Бруштейн практически сразу обрела особый статус «книги для посвященных», заповеди которой стали жизненной основой для нескольких поколений интеллигенции, а знание книги - своего рода маркером, отделявшим «своих» - читателей трилогии - от чужих, непосвященных. Значимость книги для тех поколений, чье детство пришлось на 1960-1980-е гг, стала осознаваться лишь сегодня, когда массовая встреча этих читателей оказалась возможной в виртуальном пространстве (об этом речь пойдет позже).
Числившаяся «по ведомству» детской литературы, трилогия почти не привлекала к себе внимания литературоведов: исключением стала книга А. Туркова об А.Я. Бруштейн, в которой трилогия рассмотрена, главным образом, в биографическом аспекте1 . На сегодняшний день можно наметить два аспекта изучения «Дороги...». Первый - рассмотрение книги в контексте всего творчества писательницы и шире - в общем контексте литературы «оттепели». Он обусловлен тем, что и пьесы А.Я. Бруштейн2 и первая книга ее мемуаров «Страницы прошлого» (1952), к которым восходят, иногда почти дословно, многие страницы «Дороги...», представляют собой вполне типичные произведения советского времени. Отчетливое разделение на «черное и белое», идеологические и словесные штампы, свойственные этим произведениям, казалось бы, почти не таят в себе возможностей художественного открытия. Но именно почти: таким открытием неожиданно становится «Дорога...», в которой из среды провинциального дореволюционного города, которую и раньше воссоздавала Бруштейн3. проступают герои со сложными характерами и необычными судьбами, в разной мере сопротивляющиеся самой своей жизнью бесчеловечному государству и ходу истории. Эта сквозная тема делает «Дорогу...» в значительной степени книгой «оттепели»; отметим, кстати, что одна из частей другой книги А.Я. Бруштейн «Вечерние огни» была опубликована в том же номере «Нового мира», что и «Один день Ивана Денисовича»4. Но дело, конечно, не столько во времени создания и публикации «Дороги...». сколько в том. что она впитала в себя дух времени - свободу говорить о закрытых ранее темах, не посягая на правильность государственного устройства в целом. Перечень таких тем очень значим: это и официальный антисемитизм в дореволюционной России, в частности - процентная норма при поступлении в гимназии, и дело мултанских вотяков, и дело Дрейфуса. изображением которого в книге А.Я. Бруштейн. по свидетельству ее родных, гордилась более всего5. «Глотка свободы» (если воспользоваться названием книги Б.Ш. Окуджавы) оказалось вполне достаточно для того, чтобы воскресить в памяти дорогих А.Я. Бруштейн людей, возможность говорить о которых, казалось, ушла навсегда. Изображение исторических событий рубежа веков - «якутского протеста», дела мултанских вотяков, голода в Поволжье - рождало многочисленные (и. возможно, далеко не всегда подразумеваемые автором) аллюзии на недавние события XX в. Страна была другой, но жизненный опыт и способность противостоять ходу истории оставались сходными.
Второй путь изучения автобиографической трилогии А.Я. Бруштейн - составление по возможности полного комментария к ней. В 2009 г. в Живом Журнале было основано сообщество «lyudiknigi». главной целью которого стало восстановление реалий, связанных с изображенными событиями. прототипами книги и судьбами ее главных героев. Участниками сообщества было сделано немало открытий в литературных, архивных или сетевых источниках. На сегодняшний день практически полностью подготовлен комментарий к первой части трилогии и собрана большая часть материалов для комментирования второй. Обозначу основные направления наших поисков.
Во-первых, это история семьи, изображенной в романе как семья Яновских (настоящая фамилия Выгодские). В центре автобиографического повествования А.Я. Бруштейн стоит образ отца - Якова Ефимовича Яновского (Выгодского), однако многие стороны его личности остаются за страницами книги. Истории жизни Якова Ефимовича Выгодского - известного врача и главы еврейской общины Вильны - посвящено несколько исследований6. Вот что писал о себе сам Выгодский: «Я родился в 1856 г. в хасидской семье в Бобруйске. Был старшим из моих 7 братьев. До 14 лет я воспитывался в глубоко религиозном духе любавических хасидов.
Учился в Хедере. Когда мне было 10 лет. мой отец переехал в Вильно, где он занимался продажей экипировки для русской армии... Моя мать была очень способной, умной и энергичной женщиной. Она к этому времени должна была сама тяжело работать, чтобы обеспечить нашу большую семью. До 10 лет я был известным в городе хулиганом. Однако с того времени я попал под влияние выдающегося раввина Абрама Бер Иерми-гуд, гениального талмудиста и блестящего знатока каббалы, который был полностью отключен от мирских забот. Под его влиянием я стал глубоко и всесторонне изучать религию»7. Очевидно, что эта сторона жизни отца не могла быть отражена в советской книге, более того, в повествовании Бруштейн отец предстает едва ли не яростным атеистом. Когда дочь просит его вылечить соседскую девочку Юльку, об исцелении которой мать (католичка) молится иконе Остабрамской Божией матери, отец отвечает: «У нас с боженькой разделение труда, вместе не лечим»8, - но, конечно же, лечит девочку. За рамки книги, прежде всего хронологические, выходит и героическое поведение доктора Выгодского во время первой мировой войны, описанное им в книге «Ин Штурм»: он издал от своего имени воззвание к еврейскому населению с призывом не платить контрибуцию и был арестован9. Естественно, что не мог попасть в книгу и такой факт: когда в 1940 г. Вильно был оккупирован СССР, именно Яков Выгодский обратился к Сталину с меморандумом о том, чтобы не закрывали еврейские и древнееврейские школы в занятых районах Польши и Литвы 10 . Современники описывают и трагическую смерть Якова Выгодского, подробностей которой, возможно, не знала его дочь 11 : восьмидесятисемилетний старик, избитый немцами, умер на полу камеры Лукишской тюрьмы. Вот что пишет Авром Суцкевер в книге «Виленское гетто»: «...доктор Яков Выгодский, бывший президент виленской еврейской общины, с самого входа немцев в город был готов помогать своим единоверцам. Он уже был очень болен и передвигался с трудом. Десятки, сотни людей обращались к нему за помощью. Больной старик поднялся с постели и, в черном костюме со спешно пришитыми желтыми латками, опираясь на трость, отправился к референту по еврейским делам Муреру... Доктор Выгодский подошел к нему, представился и стал говорить о беззакониях, творимых в отношении еврейского населения. Мурер... надел белые перчатки и сбросил его с лестницы. Доктор Выгодский с трудом поднялся, вытер с лица кровь и отправился восвояси по мостовой, как и все евреи... С тех пор старый благодетель больше не выходил из дома - до того дня, когда приехавшие в автомобиле люди вытащили его из постели и увезли в Лукишки. Моя жена видела его в тюрьме. Швайненберг мучил его в течение месяца, бросал трупы в его камеру» 12 . Последние дни Якова Выгодского в Лукишской тюрьме описывает Ружка Корчак: «Тяжелобольной старик лежал, изнывая от страданий, в углу, который с великим трудом удалось для него освободить в забитой до отказа камере, куда немцы натолкали 75 заключенных.
К нему не допустили врача, запретили оказывать какую-либо помощь, но он еще находил силы ободрять сидящих с ним евреев, пытался рассеять их отчаяние. Он был самым мужественным из них. а потом, когда их забрали из камеры, остался там один-одинешенек. Кто-то хотел оставить ему свое пальто. Выгодский отказался: ему. мол. оно уже не понадобится, а другим, может, еще принесет пользу. Так в немом одиночестве, на стылом тюремном бетоне, в муках ушел из жизни заступник евреев “литовского Иерусалима” Яков Выгодский»13.
Его жена его. Елена Семеновна Выгодская (в девичестве Ядловкина). была уничтожена в Треблинке. Точная дата ее смерти неизвестна. В листе свидетельских показаний Яд Вашема находим следующее: «Фамилия Выгодски. Имя Якоб, степень/звание доктор, имя отца - Абель, имя матери - Хава, имя супруги - Хелена, профессия - врач, глава общины»14. Полностью события жизни Якова Выгодского могут быть восстановлены, когда будут переведены с идиш его книги, в особенности - автобиографическая повесть «В юные годы»15.
Поиск прототипов позволил собрать сведения и почти обо всех из семи братьев Выгодских. Так. в сообщество написала правнучка известного офтальмолога Гавриила Выгодского (в трилогии - дяди Гани) и подробно рассказала об истории его жизни и его семье16. Адреса братьев Выгодских (как и других персонажей книги) были найдены в Памятных книжках Вильны и Санкт-Петербурга - на сегодняшний день это один из основных источников работы над комментарием. Памятные книжки Каменец-Подольской губернии позволили одной из участниц сообщества. Алле Старковой, найти прототип дедушки Александры Бруштейн по материнской линии, человека с удивительной судьбой, четырежды георгиевского кавалера и генерала, не отказавшегося от своего еврейства. Это Семен Михайлович Ядловкин (в книге Яблонкин). врач Каменец-Подольского училища 17 . Найден в Памятных книжках Оренбургской губернии и его сын. коллежский асессор Михаил Семенович Ядловкин. в трилогии - «баловень» дядя Миша, яркий и разносторонний человек с несложившейся судьбой генеральского сына18.
Второе направление поисков связано с попыткой восстановить судьбы институтских подруг Саши и других героев, упоминаемых в книге. Больше всего на сегодняшний день известно о Лиде Карцевой, прототипом которой была Мария Владимировна Картавцева. Ее отец, юрист Владимир Эпафродитович Картавцев был родным братом мужа писательницы Марии Всеволодовны Крестовской, а двоюродными тетями Лиды Карцевой (Марии Картавцевой) по матери были Мирра Лохвицкая и Надежда Тэффи (возможно, что последняя не упомянута в романе как белая эмигрантка, возможно - потому что первая ее публикация состоялась позже, чем приведенный в «Дороге...» разговор девочек)19. Имя Марии Владимировны Картавцевой есть в списках выпускниц Смольного института 20 . К сожа-90
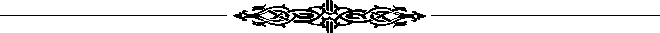
лению. пока не удалось восстановить подлинное имя другой выпускницы Смольного - Тамары Хованской и ее брата Лени; нет на сегодняшний день точных сведений и о прототипе Ивана Константиновича Рогова. По всей вероятности, настоящая фамилия Мани Фейгель - Фейгина; в списках выпускников Виленской мужской гимназии есть ее брат Мордко Фейгин, в будущем - участник Киевского бунта студентов 21
Начатая в этом году работа в архивах города Вильнюса позволила отчетливее воссоздать тот «фон», на котором разворачивается история семьи Выгодских и действие книги в целом. Так. в архиве было найдено «Дело о службе инспектора Еврейского Учительского института Штен-берга Овсея» 22 . Это - отец будущего композитора, Максимилиана Штейнберга. ученика Римского-Корсакова и учителя Шостаковича, и известного парижского санскритолога Надежды Шупак (в трилогии Макса и Диночки Штейнбергов)23. Непосредственно отразилось в тексте книги и найденное в архиве «Дело о запрещении принудительного посещения в учебных заведениях учениками-иноверцами православных богослужений» (1897) -вспомним о радости «инославных» девочек, свободных от выстаивания длительных молебнов, когда умирает Александр Третий. «Переписка с учебными заведениями Виленского учебного округа по поводу напечатанного в № 151 газеты “Гражданин” за 1888 год сообщения из города Вильны об исключении ученика за разговор на польском языке» позволяет прокомментировать разговор Саши с Олесей Мартышевской и Лаурентиной Мико шей: «И вот сейчас. - ты сама видела. Саша! - нам. полькам, нельзя говорить на своем родном языке... Только по-русски!»24. Эпизод, когда Сашу и ее одноклассниц начальница Александра Яковлевна Колодкина (действительно, как и указывается в книге, бывшая возлюбленная писателя И.А. Гончарова)25 хочет исключить за помощь их одноклассницам и трактует это как открытие тайной школы, неожиданно подтверждается «Делом о закрытии тайных школ и привлечении лиц. открывших их. к ответственности» (1894). а эпизод с передачей ученицам сестрой учителя Горохова экзаменационных заданий - «Отзывами о письменных работах по алгебре и геометрии, исполненных учениками на испытание зрелости» (1902). Перечислим еще несколько «Дел об исключениях за неблагонадежность...». «Дело о назначении стипендии имени Багратиона ученице Высшего Виленского Мариинского женского училища Атрошенко Л.» (Леночка Атрошенко упоминается в одном из эпизодов в связи с Тамарой Хованской). «Дело о выдаче свидетельства на звание домашней учительницы Айзенштадт Берте» (возможно, той самой, которая сдавала вместе с Сашей экзамен в институт - Высшее Мариинское женское училище). «Дела о назначении и увольнении воспитательницы Высшего Виленского Мариинского женского училища Певцовой»26 - сестры будущего актера Иллариона Певцова, одного из эпизодических героев книги. Отметим, что в трилогии отразились судьбы многих людей, связанных с историей русского театра - как эпизодические персонажи книги фигурируют, кроме Иллариона Певцова, Вася Шверубович (будущий Василий Качалов), Вера Федоровна Комиссаржевская (подробнее о ее жизни в Вильно рассказывается в книге А.Я. Бруштейн «Страницы прошлого»).
Таким образом, можно говорить о том, что «Дорога уходит вдаль» -важнейшее мемуарное свидетельство, отразившее реалии конца XIX - начала XX в. Достоверность книги, ее связь со множеством значимых лиц и событий рубежа веков еще раз подтверждают необходимость полного комментария к книге, работа над которым продолжается.
Список литературы Трилогия Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль»: опыт комментирования
- Турков А.М. От десяти до девяноста. О творчестве А.Я. Бруштейн. М., 1966
- Турков А.М. От десяти до девяноста. О творчестве А.Я. Бруштейн. М., 1966. С. 19-42.
- Новый мир. 1962. № 11
- Аграновский Г. Памятники еврейской истории и культуры в Вильнюсе. М., 1997. (Общество «Еврейское наследие». Серия монографий. Вып. 2). URL: http://www.jewish-heritage.org/agran.htm (дата обращения 17.02.2012)
- Выгодский. Воспоминания, 1923 (евр).
- Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль: Трилогия. Кишинев, 1987. С. 64
- Выгодский. Ин штурм. [В грозу]. Вилне,1926 (евр)
- Суцкевер А. Из Виленского гетто: Воспоминания/Пер. О.Л. Хайкиной, Н.А. Шварцмана. М.; Екатеринбург, 2008 (Российская б-ка Холокоста).
- Корчак Р. Пламя под пеплом. URL: http://lib.rus.ec/b/220326/read (дата обращения 17.02.2012)
- Yad Vashem = Яд Вашем: Центральная База данных имен жертв катастрофы (Шоа). URL: http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_2KE/.cmd/acd/.ar/sa.portlet.VictimDetailsSubmitAction/.c/6_0_1L5/.ce/7_0_2KI/.p/5_0_2E6?victim_details_id=627254&victim_details_name=%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1&q1=938ZakGKFtg%3D&q2=CAKCj2y%2BpR5DqloIJ70Ku3Om1RZiddtU&q3=OVO81WuNkws%3D&q4=OVO81WuNkws%3D&q5=sx7JkkrRRcE%3D&q6=zV6FK0rx%2F80%3D&q7=8wN1GCoc4LiceDMoutKQD0erHwhTw2DG&frm1_npage=1 (дата обращения 17.02.2012)
- Выгодский. Воспоминания, 1923 (евр); Ин штурм. [В грозу]. Вилне, 1926 (евр); Ин гегенем. [В аду]. Вилне, 1927 (евр)
- http://lyudi-knigi.livejournal.com/40192.html
- Адрес-календарь и памятная книжка по Оренбургской губернии на 1901 год. С. 22. URL: http://orenlib.ru/index.php?dn=elbibl&to=open&id=446 (дата обращения 17.02.2012)
- URL: http://raf-sh.livejournal.com/191956.html?view=4559060#t4559060 (дата обращения 17.02.2012)
- URL: http://history.h15.ru/db.php?table=`Смольный` (дата обращения 17.02.2012)
- URL: http://www.petergen.com/history/wil1gim.shtml (дата обращения 17.02.2012)
- Дело о службе инспектора Еврейского Учительского Института Штейнберга Овсея. 1873. Литовский государственный исторический архив. Ф. 567. Оп. 415
- URL: http://www.conservatory.ru/files/alm_08_12_zemlyanitsyna.pdf (дата обращения 17.02.2012)
- Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль: Трилогия. С. 276
- Кудринский Ф.А. К биографии И.А. Гончарова//И.А. Гончаров в воспоминаниях современников/Отв. ред. Н.К. Пиксанов. Л., 1969. С. 86-95. (Серия литературных мемуаров)
- Литовский Государственный Исторический Архив. Документы учебного округа. Ф. 567. Оп. 1. Т. 2. Дело № 1327. Отзывы о письменных работах по алгебре и геометрии, исполненных ученицами на испытания зрелости (1902). Ф. 567. Оп. 1. Т. 2. Дело № 908. Дело о закрытии тайных школ и привлечении лиц, открывших их, к ответственности (1904)
- Гельцер Ш. Жизнь и деятельность доктора Якова Выгодского. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/konferences/1999/2-21.pdf (дата обращения 17.02.2012)
- Рафес Ю. Первый в мире союз врачей-евреев (г. Вильно). URL: http://berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer4/Rafes1.htm (дата обращения 17.02.2012)