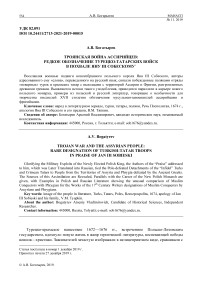Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск в похвале Яну III Собескому
Автор: Богатырев А.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Восславляя военные подвиги новоизбранного польского короля Яна III Собеского, авторы адресованного ему «слова», переведенного на русский язык, связали побежденные поляками отряды «неверных» турок и крымских татар с выходцами с территорий Ассирии и Фригии, разгромленных древними греками. Выявляются истоки такого уподобления, приводятся параллели в карьере нового польского монарха, примеры из польской и русской литератур, говорящие о необычности для творчества писателей XVII столетия обозначения мусульман-завоевателей ассирийцами и фригийцами.
Народ в литературном зеркале, турки, татары, поляки, речь посполитая, 1674 г, апология яна iii собеского и его предков, в.м. тяпкин
Короткий адрес: https://sciup.org/14118211
IDR: 14118211 | УДК: 82.091 | DOI: 10.24411/2713-2021-2019-00015
Текст научной статьи Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск в похвале Яну III Собескому
Турецко-крымское нашествие 1672—1676 гг., встреченное Польско-Литовским государством, вдохнуло новую жизнь в жанр героической литературы, воспевающей победы воинов—христиан. Завоевателей зачастую изображали в нелицеприятном виде, сравнивали с
Статья поступила в номер 1 декабря 2019 г.
Принята к печати 27 декабря 2019 г.
МАИАСП № 11. 2019
Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск… животными, членистоногими, грибами (Potocki, Lipski 1850: 284, 300, 413; Krzyżanowski, Adalberg 1970: 297; Pasek 1857: 304; Ryba 2014: 16, 19 etc.). Два любопытных сопоставления «географического» характера попались нам на глаза в отчетной документации российского постоянного представительства в Речи Посполитой Василия Михайловича Тяпкина. Он заслуживает нескольких слов о себе (Богатырев 2018: 30—34) — знал толк в дипломатических делах, имел опыт общения с поляками, ездил по поручению Москвы в Турцию. Когда возникла идея сделать Варшаву местом пребывания резидента его царского величества, данную должность заполучил именно Тяпкин (в этом качестве служил с 1673/1674 по 1677 гг.). Довольно образованный по тогдашним меркам человек, «московит» обладал талантом отыскивать нужные сведения, которые затем переправлял своему начальству в Россию (Богатырев 2020). Как раз к этому случаю имеет отношение образец письменности, о котором пойдет речь далее.
Польско-Литовское государство было, как известно, своеобразной «республикой», поэтому правителей в нем избирали. Бескоролевье после кончины Михаила Вишневецкого (1669—1673) увенчалось восшествием на трон бывшего коронного гетмана Яна Собеского (1674—1696) (на престоле под именем Яна III). Согласно обычаю, новоиспеченный государь обязан был принести клятву верности Речи Посполитой. Это произошло сразу после «элекции» (выборов) в 1674 г. в варшавском костеле св. Иоанна Предтечи. По торжественному случаю оказалось написано похвальное слово, которое и попало «в прицел» нашего исследовательского интереса.
Текст под заголовком «Перевод списка записи, какову дали новообранному Яну, королю полскому, Андрей Требицкой, бискуп Краковской, Ян Генбицкой, бискуп Плоцкой, с товарыщи при присяге королевской в нынешнем… году…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 28—35об.)представляет собой«переклад»польского «хвалебного» сочинения. Повествует оно о славной семейной традиции и громких удачах Яна III, отличившегося борьбой против османов и крымских татар. Провозглашается одна из побед монарха, гетманом одолевшего неприятеля в Хотинском сражении 1673 г., пожелавшего «перед пехотными полки к валу прийти и приступити…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 32), тем самым покорив захваченные «неверными» укрепления Хотина. Битва попала под пристальное внимание авторов как «виктория» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 30об.), «в которые время… паши убиты…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 32—32об.). Создатели панегирика особо подчеркнули: «Обоз со всем народом (нарядом?) и уготовлением ассирийским и фригийским, а с сим делом разграблен и взят славной Хотимской замок, мост чрез Днестр и на обоих странах силные наподобие замков крепости побед быша…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 32об.).
Пассаж с «ассирийским» воинством, безусловно, оправдан с географической точки зрения — осколки бывшей Ассирийской державы оказались в составе тогдашней Османской империи. На это, если исходить из опубликованных материалов, прежде всех обратил внимание проповедник, писатель и общественный деятель XVI столетия Станислав Ожеховский (Ореховский): «Ибо турок как Ассирией, также и Вавилонией… сегодня владеет…» (Orzechowski 1855: 106). Мотив был продолжен в «некрологе» военачальника Стефана Хмелецкого (ум. 1630 г.), подобно Юдифи, обезглавившей «ассирийского гетмана» Олоферна, бросившего голову сына татарского полководца Кантемир-мурзы к ногам польского монарха (Birkowski 1842: 107). История Юдифи была довольно востребована, охотно включалась в репертуар придворных театральных постановок (Osiecka-Samsonowicz 2003: 121). В связи с турками фигура могучего Олоферна, порабощавшего народы и государства, появляется у Станислава Освенцима (Oświęcim 1907: 164).
МАИАСП № 11. 2019
В России турок и татар к ассирийцам приравнивал в своей «Истории» А. Лызлов (1692 г.) (Лызлов), чуть раньше знаменитый проповедник XVII в. Симеон Полоцкий вопрошал: «Или Ассирийское где есть ныне царство?» (Киселева 2011: 192). В военном отношении на эпизод с Ассирией указал царям Иоанну и Петру патриарх Досифей II, напоминая письмом 1693 г. о помощи высших сил в вооруженном конфликте: «И тако изыде Ангел Господень и убил от ополчения ассирийскаго 122 тысячи…» (Каптерев 1891). Послание было написано в момент «затишья» русско-турецкой войны 1686—1700 гг., снова начавшей разгораться от 1694 г.
Непросто обстоит дело с «фригийской» частью изучаемого отрывка. С одной стороны, если речь идет о турках, то и здесь географическая трактовка вполне приемлема — опять-таки, бывшие фригийские владения в области Анатолия перешли к Порте (Аксененко, Керим-Заде 1990: 264, 272). Писал об этом и Иннокентий Гизель, чьему перу приписывают «Киевский синопсис» 1674 г., отзывавшийся о Фригии как об одной из «провинций» Оманской империи (Сапожников, Сапожникова 2006: 53). Имеется здесь интересный нюанс. Многое говорит в пользу того, что фригийцы оказались упомянуты вместе с турками и по еще одной причине. Есть тут отсылка к случившейся на фригийских территориях Троянской войне, в перипетиях которой польские книгочеи неплохо разбирались. «Золотым яблоком» (в связи с державой, символом власти), сыгравшим роковую роль в легенде о Трое, называли европейские просторы, желанную цель Высокой Порты. Памятуя также о том, что мы сталкиваемся с османским имперским мифом, приведем слова блестящего польского оратора Петра Скарги, сокрушавшегося о нашествии турок: «На… яблоко златое королевства их, яко на… дуб, с которого листья опали…» (Skarga 1857: 55). Троянские «напевы» аккомпанируют деятельности Яна Собеского (Wójcik 1983: 442), в польской словесности становятся заметны в XV в. — всплывает имя Аякса и троянцев-турок (Zabłocki 1976: 80). Возрождается малоазийский город-государство в творчестве Миколая Рея и Яна Кохановского, интеллектуальных «флагманов» XVI столетия.
Если же искать «исходный пункт» именно для литературной мысли, близкой во временном отношении к «Записи», то в 1638 г. на польском языке были известны «Метаморфозы» Публия Овидия Назона, содержащие, конечно, и строки о фригийцах (Owidiusz 1638: 472). Скорбя по герою Речи Посполитой Стефану Чарнецкому (1666 г.), Ян Хризостом Пасэк упоминает храбреца эпохи Троянской войны Протесилая, который, «не жалея крови и здравия своего, был убит войском фригийским…» (Pasek 1857: 231). Правда, подразумевалась несколько иная ситуация: Чарнецкий скончался от ранения, полученного при взятии на украинских землях мятежной крепости Ставище (Kersten 1963: 515). Выходит, под «фригийцами» скрывались «малороссийские» повстанцы
Сами поляки больше ассоциировали себя не с троянцами-фригийцами, а с греками. Метафорой победоносного действия стала фраза «на троянском коне» (Sikorski 1990: 390), о троянцах же вспоминали в негативном контексе. Пьяного удальца, к примеру, сравнивали с сыном троянского царя «фригийцем» Гектором (Paprocki 1858: 148). В тогдашней Польше помнили историю владыки Фригии Мидаса (Chrzanowski 1905: 238), глупость которого привела к известному уродству, к появлению выражения о чем-то опрометчивом и постыдном — «ослиные уши Мидаса». Клеймя турок позором за бегство (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 31), творцы «Записи» подчеркивают недальновидность тех, кто «в тесном местечке со многими ратьми заперся» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 31).
Попытавшись «разрубить» фригийский узел, Ян Собеский словно бы примерил на себя маску одного из выдающихся полководцев древности — Александра Македонского, чьи достижения были, что называется, на слуху у поляков—интеллектуалов (Ślęczka 2003: 162).
МАИАСП № 11. 2019
Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск…
Его явно выделяли из числа других исторических личностей, наделяя мужеством, храбростью и прочими добродетелями (Ślęczka 2003: 44, 100, 186). В нашей «Записи» Собескому, которого ставили вровень с отпрыском Флиппа II (Targosz 1991: 341; Potocki 1996: 117), также приписывается «воинская», «удивителная мужеская сила», которая «над гражданы превознесла…» «храброго воина» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 29об., 30). Мистицизм Александра, его вера в астрологию и судьбу (Modrzewski 1857: 40) находят выражение и в нашем тексте (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 30, 32, 34). Хотинская баталия «предвозвещение сотворила и благостным знамением … королевскому имени сопричелся, устроила к короне приход…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 30об.). Подобно ученику Аристотеля, Собеский принимает личное участие в сражениях. Он «сторожи обходит…», чтобы «становища уставливать, наряд вои[н]ско[и] сам досматриват[ь]…», а в разгар сражения «первыи на ограду градцкую возшел…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 32, 32об.). Осада занимала отдельное место в военных талантах Александра, по чьим стопам пошел Ян III, победив «воев з голоду и слотою (непогодой. — А. Б. )… до трех дней стоянием утомленных…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 32).
Несмотря на легко распознаваемый античный «исток», использование фригийского элемента в «Записи» больше напоминает сюжет из сочинения польского духовного автора XV в. Адама Свинки. Посвящая строки деяниям богатыря-поляка Завиши Черного, бившего османов в походах Сигизмунда Люксембургского, Свинка сравнивает турок с фригийцами, приводя и иное наименование этого народа—Teucros (Zabłocki 1976: 80). Завиша погиб в плену, схваченный «неверными», что пересекается с судьбой другого исторического персонажа, брата новоизбранного польского короля. Его доле уделено место в «Записи»: Марек Собеский, «которой исбиену… от варвар у Батара…»,оказался в положении узника, «аще и беслучай убежания, однакож лутче изволил ум[е]рет[ь] над крепкими мужами…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 34). Все это, безусловно, приближает апологию Яна Собеского к «орации» XV столетия, с той, правда, оговоркой, что последнее является эпитафией. Разбираемому же нами труду, напротив, присущ приподнятый стиль героического эпоса, Ян III «от обозу к королевскому престолу тем славнее прешел…», «багрянице нынешней блистания придал…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 33, 34).
Немного новых «черточек» к обозначению «фригийским». Как и в случае «ассирийцев», сравнение прилагалось к разным ситуациям. Например, когда дни Яна III уже были сочтены, «фригийцы» вновь появляются вместе с французским дипломатом Мельхиором де Полиньяком, развившим в Речи Посполитой бурную активность. Однако теперь речь ведется о самих поляках, которым грозят несчастья (Przydatek do historyi 1835: 126). Итак, несмотря на троянские мотивы периода польско-турецкой войны (Potocki, Lipski 1850: 302, 304), прозвание «фригийцы» в литературном творчестве Речи Посполитой за турками и татарами, насколько можем судить, не закрепилось. Хотя Собеский еще полковником участвовал в коллизиях времен Богдана Хмельницкого (Sadzewicz 1972: 28, 173), фригийским «родством» в нашем тексте, как мы уже убедились, наделялись отнюдь не украинцы. Тем не менее, без украинского «следа» не обошлось и в «Записи» — «год преславные над казаками и татарами, вместе соединенными, Собеские победы назнаменоваша, отняв от неприятеля казака городы и страну великую Бряславскую…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 31об.).
Развернемся к русской литературной культуре, вероятно, более близкой переводчику «Записи». Здесь «фригийский» сюжет вполне распознается, особенно важна «Повесть» о взятии Царьграда турками в 1453 г. Рассказывая о поиске места для будущей столицы Византии, «сказитель» касается предания об императоре Константине, которому приглянулись площади прежней Трои, «идеже и всемирная победа бысть Грекам на Фряги
МАИАСП № 11. 2019
(фригийцы)…» (Орлов 1944: 102). Это, естественно, не прямое объединение уроженцев Фригии и турок, но далее обнажается мотив змеи, символа «басурманства». Очевидно, строка в русском источнике имеет один «корень» с польским изречением о фригийцах — предание о Троянской войне, в разной степени известное начитанным полякам и россиянам (Лурье 1963: 270, 272). Ясно, что в российской традиции под «фригийцами» разумели иноземцев, чужестранцев, людей иной веры и, в конечном итоге, недругов. Между прочим, «чужие» вызывают негодование и у авторов «Записи»: счастливая судьба раньше «иноземцом нежели своим сприятствовала…», но отныне «обратила оттуду мысль к жителем и на вложенное под знаком таинства безчестие, яко невозмогут короли полские, токмо иноземцы…»(РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 29—29об.). К слову, мусульман (крымцев) в изучаемом тексте приравнивают не только к ассирийцам и фригийцам, но и к скифам — польский воитель «крепость скифскую… стер» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 31об.). Схожие взгляды исповедовали Миколай Розембарский (Kowalska-Urbankowa 1993: 27—29) и Мацей (Матвей) Стрыйковский, ставивший скифов и татар рядом (Stryjkowski 1582: 105).
Акцентируем: фригийцами, фрягами в русских памятниках запросто именовали «латинян», приверженцев католицизма (ПСРЛ 2000: 679). Их нередко наделяли порочными склонностями («златолюбивый» фригийский царь (Буланин 1991: 342)), с отрицательной «окраской» использовал в переписке с А. Курбским уподобление фригийцам Иван IV. Развивая тему нечестивых занятий, царь упомянул фригийские «пляскания» и «пискания» (ПИГАК 1993: 83). Грех приводит к погибели, и вот в одном древнерусском сочинении говорится о богатой стране фригийской, которую за ее прегрешения ожидала горькая участь (Порфирьев 1890: 436).
Нет сомнений, именно на нее намекали и создатели «Записи», похожий смысл сопровождает явление «фригийцев» в анализируемом архивном материале. Дело в том, что в польском языке того времени укоренились представления о троянском (фригийском) как о несущем печать катастрофы. «Дабы… не остал[а]ся Троя пустыми и разоренными полями…» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 164. Л. 64), — читаем уже в другом месте у Тяпкина. Из уст в уста передавалась легенда о царе Крезе, не только лидийском, но и фригийском правителе, и его страшном конце (Skwara 1999: 365). Назиданием потомкам звучала история «фрига» Тантала (Krzyżanowski, Żukowska-Billip 1960: 268; Pelc 1969: 309), обреченного на невыносимые муки: стоя по горло в воде, он мучился от жажды и голода, не способный дотянуться до нависших над ним веток с плодами. «Золотое яблоко», благодаря Яну Собескому, так и осталось недоступно туркам, чье наступление было тяжелым испытанием «всем мимошедшаго мира монархиям» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163. Л. 30об.).
Перед нами «полотно», сотканное из «волокон» разных культурных веяний, представлений, мироощущений. Анализ источников показал, что формулировка с Ассирией имела первоосновой библейский текст, фригийская же компонента выступает в качестве заимствования из области древнегреческого наследия, разбавленного позднейшими обработками. Имея предшественников в XV—XVI столетиях, создатели «Записи» сумели вписать фригийцев—турок в литературный дискурс своего, XVII века. Исследованные нами характеристики «поганых» ратей в целом находились в русле и польского, и, отчасти, российского мировоззрения. «Ассирийский» и «фригийский» сопутствовали славной деятельности «рыцарей» Речи Посполитой, сражавшихся с врагами на благо польского «Лехистана». Видится вполне закономерным приложение их к личности не менее заслуженного полководца и «истребителя» турок Яна Собеского. Именно в посвященном ему словесном «витийстве» эти два обозначения турецко-татарских орд слились воедино.
МАИАСП № 11. 2019
Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск…
Список литературы Троянская война ассирийцев: редкое обозначение турецко-татарских войск в похвале Яну III Собескому
- Аксененко А.Г., Керим-Заде Р.И. 1990. Турецкая республика. Москва: Наука; Главная редакция восточной литературы.
- Богатырев А.В. 2018. Благодетель первого русского резидента в Речи Посполитой. Гуманитарные и юридические исследования 2, 30-34.
- Богатырев А.В. 2020. Русский текст "pacta conventa" Яна III Собеского и его польский первоисточник. ГДЛ. Сб. 19 (в печати).
- Буланин Д.М. 1991. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв. München: Sagner.
- Каптерев Н.Ф. 1891. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669-1707 гг.). Москва: Типография А.И. Снегиревой.
- Киселева М.С. 2011. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII - начала XVIII вв. Москва: Прогресс-Традиция.
- Лихачев Д.С., Лурье Я.С., Рыков Ю.Д. 1993. ПИГАК. Москва: Наука.
- Лурье Я.С. 1963. О путях развития светской литературы в России и у западных славян в XV-XVI вв. ТОДРЛ 19, 262-288.
- Лызлов А. 1990. Скифская история. Москва: Наука (Памятники исторической мысли).
- Орлов А.С. 1944. Героические темы древней русской литературы. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Порфирьев И.Я. 1890. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки. Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук.
- ПСРЛ. 2000. Т. 3. Новгородская первая летопись. Москва: Языки русской культуры.
- РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 163.
- РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 164.
- Сапожников О.Я., Сапожникова И.Ю. 2006. Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674). Москва: Европа.
- Birkowski F. 1842. Stefan Chmielecki, abonagrobek Jaśnie Wielmożnego Pana, Jego Mości P. Stephana Chmieleckiego, wojewody kijowskiego. In: Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i tureckich, XVII wieku. Lwów: Piotr Piller, 104-120.
- Chrzanowski I. 1905. Cztery rozdziały ze studyum o Marcinie Bielskim. In: Z wieku Mikołaja Reja. Warszawa: Gebethner, 150-323.
- Kersten A. 1963. Stefan Czarniecki 1599-1665. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
- Kowalska-Urbankowa Z. 1993. Mikołaja Rozembarskiego traktat z roku 1499 o pochodzeniu Tatarów: studium krytyczne i edycja traktatu. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Krzyżanowski J., Adalberg S. 1970. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 2. (K-P). Warszawa: PIW.
- Krzyżanowski J., Żukowska-Billip K. (oprac.). 1960. Dawna facecja polska XVI-XVIII w. Warszawa: PIW.
- Modrzewski A.F. 1857. O poprawie Rzeczypospolitej. Przemyśl: Michał Dzikowski.
- Orzechowski S. 1855. Mowy. Sanok: Karol Pollak.
- Osiecka-Samsonowicz H. 2003. Agostino Locci (1601 - po 1660) - scenograf i architect na dworze królewskim w Polsce.Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
- Oświęcim S. 1907.Dyaryusz 1643-1651. Kraków: Komisja Historyczna Akademii Umiejętności.
- Owidiusz 1638. Księgi Metamorphoseon, to iest Przemian. Kraków: A. Piotrkowczyk.
- Paprocki B. 1858. Herby rycerstwa polskiego. Kraków: Biblioteka Polska.
- Pasek J.Ch. 1857. Pamiętnik… Lwów: Kornel Piller.
- Pelc J. 1969. "Treny" Jana Kochanowskiego. Warszawa: Czytelnik.
- Potocki W., Lipski A. 1850. Wojna chocimska. Lwów: Ossolineum.
- Potocki W. 1996. Muza Polska na tryjumfalny wjazd najaśniejszego Jana III. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
- Przydatek do historyi bezkrólewia po śmierci Jana III w Polsce. 1835. KN 1, 117-134.
- Ryba R. 2014. Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice. Katowice: Uniwersytet Śląski.
- Sadzewicz M. 1972. Jan Sobieski, 1629-1696. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
- Sikorski R. (red.) 1990. Polskie tradycje wojskowe. T. 1. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
- Skarga P. 1857. Kazania sejmowe. Kraków: Biblioteka Polska.
- Skwara M. 1999. O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII w. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Stryjkowski M. 1582. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi. Królewiec: Osterberger.
- Ślęczka T. 2003. Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
- Targosz K. 1991. Jan Trzeci Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Wójcik Z. 1983. Jan Sobieski 1629-1696. Warszawa: PIW.
- Zabłocki S. 1976. Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Warszawa: PWN.