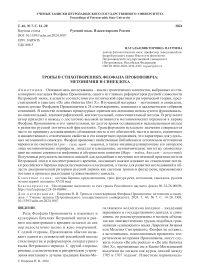Тропы в стихотворениях Феофана Прокоповича: метонимия и синекдоха
Автор: Патроева Н.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Основная цель исследования анализ тропеических контекстов, выбранных из стихотворного наследия Феофана Прокоповича, одного из главных реформаторов русской словесности Петровской эпохи, в аспекте соответствия его поэтической практики и риторической теории, представленной в трактате «De arte rhetorica libri X». Изучаемый материал метонимии и синекдохи, используемые Феофаном Прокоповичем в 24 стихотворениях, вошедших в академическое собрание сочинений. В качестве основных процедурных приемов исследования используются функционально-описательный, лексикографический, контекстуальный, сопоставительный методы. В результате автор приходит к выводу о достаточно высокой активности метонимических переносов в лирике Феофана Прокоповича и его значительном, но долгое время остававшемся недооцененным вкладе в развитие русской поэтической фразеологии. Трансформация исходного значения совершается часто по принципу ассоциативного сближения места и его обитателей, части и целого, единичного и множественного, отвлеченного свойства и его конкретного проявления, что характерно для узуальных метонимий и синекдох. Феофан применяет свойственные библейским и летописным источникам переносы по смежности (рог сила, щит защита), а также индивидуализирующие его авторское лицо метонимические перифразы, гипаллаги (смещенные, метонимические эпитеты), символизацию на основе смежности мифонима и абстрактного понятия (Марс война, Аполлон искусство). Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения поэтической практики поэтов Петровской эпохи и послепетровского времени, оказавших важное влияние на становление поэтики российского барокко (предклассицизма) и классицизма, а также для развития исследований в области диахронической риторики русской лирики как системы тропов и фигур речи, применяемых поэтами в процессе реализации художественного замысла.
Поэтика барокко, предклассицизм, троп, фигура речи, метонимия, синекдоха, русская поэзия первой половины xviii века
Короткий адрес: https://sciup.org/147245779
IDR: 147245779 | УДК: 808.5 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1087
Текст научной статьи Тропы в стихотворениях Феофана Прокоповича: метонимия и синекдоха
Б л агод ар н о с ти . Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00696,
Роль Феофана Прокоповича в языковых и культурных баталиях Петровской эпохи и раннего послепетровского времени остается до сих пор недостаточно полно и ясно очерченной. С одной стороны, Прокоповича обычно называют одним из основателей российской школы стихотворства и реформаторов литературного языка Петровского периода. С другой стороны, речевые, стилистические и риторические устремления впитавшего лучшие традиции Киево-Мо- гилянского коллегиума (позднее – академии) церковного и государственного деятеля, к сожалению, не реконструированы в полном объеме, так как лингвистических трудов, подобных грамматикам «славенского» языка Лаврентия Зизания или Мелетия Смотрицкого, Феофан не оставил, а источниками, позволяющими прояснить теоретические воззрения Прокоповича, могут служить только «De arte poetica» и «De arte rhetorica libri X», прочитанные им в Киево-Могилянской академии на латыни как курсы лекций между 1705 и 1707 годами1. Известные первоначаль- но только в списках и долгое время не публиковавшиеся, эти трактаты между тем широко использовались в процессе преподавания церковного красноречия в духовных училищах России. Как отмечает С. А. Кибальник,
«на эстетических идеях Феофана, почерпнутых непосредственно из его сочинений или из лекций его многочисленных последователей и учеников, воспитывалось большинство деятелей русской культуры первой половины XVIII в.» [6: 205], в том числе и М. В. Ломоносов. Изучение поэтического творчества Феофана Прокоповича представляется также важнейшим и необходимым звеном для обоснования его реформаторской роли в истории русской словесности, в силу того что теоретические воззрения того или иного автора и осуществляемые им преобразования языка и слога разворачиваются прежде всего в области художественно-риторической практики2.
Исследователи уже указывали на такие способы художественного выражения, часто применяемые в Феофановой лирике, как аллегория , тесно связанная с эмблематичностью символического мировосприятия в искусстве барокко, и антитеза , свидетельствующая о стремлении смешивать противоположное, высокое и низкое, большое и малое [4], [13]. По нашим наблюдениям, наиболее активно применяемыми Феофаном Прокоповичем в «Епиникионе» (единственном напечатанном при жизни проповедника поэтическом опусе) являются метафора (в том числе метафорические перифраз и эпитет) и повтор [8], [9]. В данной работе мы сосредоточим свое внимание на метонимиях и синекдохах, гораздо более редко включаемых в качестве материала в лексикографические издания (см. в качестве примера словарь [7], фиксирующий только сравнения и метафоры в русской поэзии классического периода) и научные разборы переносных значений в поэтическом дискурсе.
Основным материалом данной работы служат стихотворения Феофана Прокоповича, извлечения из его трактатов по риторике и поэтике, а также вокабулы «Словаря русского языка XVIII века», содержащие иллюстрации из ораторских и художественных произведений петровского сподвижника.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В трактате Феофана Прокоповича «De arte rhetorica libri X» находим обязательный, согласно установившейся с античных времен традиции для сочинений подобного рода, раздел об элок- венции, то есть подробное представление ораторских приемов (около 70 тропов и фигур речи3). С точки зрения своего предназначения (функции) риторические приемы разделяются на три группы: 1) служащие для «поучения»: участвующие в описании, создании портрета «характеризм» и «гипотипоза»4, а также «этология» – «нравоописательной речи»5; 2) способствующие «услаждению» речи6: метафора, метонимия, синекдоха, «гомэоза» (сравнение), перифраза, аллегория, «антономасия», «оксиморон», парономасия, антитеза, «диафора» (вид повтора), «метатеза» (хиазм), «гипербат» (инверсия), «диализа» (бессоюзие) и пр.; 3) «относящиеся к возбуждению переживаний»7: гипербола, «климакс» (усиление, восходящая градация), «просопопея» (олицетворение), «анадиплоза» (удвоение), «антистрофа» (эпифора), сарказм, «полисиндетон» (многосо-юзие) и др. В «De arte poetica» Прокопович разделяет фигуры речи (в том числе тропы, как он сам уточняет) на две группы: «словесные» (из которых «главные – метафора, синекдоха, метонимия, антономасия, металепсис, повторение, удвоение, многосоюзие и присоединение»8) и «смысловые» (аллегория, перифраза, гипербола, олицетворение и др.).
Метонимии Феофан предписывает
«поставление имени вместо имени; например, когда именем автора обозначаем его произведение или обла-даемый предмет именем обладателя; или же под содержанием понимаем содержимое, под действием – самого исполнителя»9.
Синекдоха рассматривается в списке тропов на девять позиций ниже метонимии (в то время как в современных работах по лексической семантике и словарях синекдоха понимается как разновидность метонимии10) и проявляется, «когда ставится часть вместо целого или целое вместо части; понимается либо один из многих или из одного многие»11, а также как «род вместо вида»12 (определение из трактата «De arte poetica»).
Согласно рекомендациям Феофана, применение риторических средств регламентируется прежде всего стилем и жанром произведения в их соответствии с авторским замыслом, содержанием и композицией текста. Из трех выделенных групп каждая демонстрирует тяготение к «возвышенному», «среднему» («цветистому») или «низменному» стилям: так, приемы первой группы встречаются в «возвышенном» и «цветистом» стилях, когда требуется «описывать что-либо»; тропы и фигуры второй группы не следует ис- ключать из области высокого и «низменного» стилей, а третьей – из «низменного»13.
В связи с приведенными дефинициями, классификационными рубриками и рекомендациями «De arte rhetorica libri X» по употреблению тропов представляется важным проследить, насколько часто и в каких жанрах сам Феофан как автор руководств по поэтике и риторике использует переносы по смежности, а также соответствует ли метонимическое словоупотребление Прокоповича отраженной в «Словаре русского языка XVIII века» норме эпохи.
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ
Стихотворения Феофана Прокоповича, насыщенные эпитетами, метафорами и аллегориями, включают немало примеров метонимических переносов. Наиболее частым из них оказывается известный языковой системе и узусу перенос топонима на обитателей данной местности (страна → ее народ/-ы), в частности Россия → россияне : … свей дерзкий силою своею Успе храброй России , боряся со нею … (212)14; Что в дар твоя Россия принесет и кия Воспоет пѣсни ? (213); … Россия весела и рада … (217). Пространственная семантика часто порождает ассоциации по смежности и для нарицательного наименования локуса, например, «граница → пространство, заключенное в эти границы»: … предѣлы хранити … (213); или «город → его жители»: Совосплещут градо-ве … (213). Пространство мира горнего ассоциируется с Богом и верой православной, например, в элегии «Плачет пастушок в долгом ненастьи» 1730 года: милость прещедра небес ясных … (216).
Еще одна типичная для узуса метонимия, используемая и Феофаном, связана с переносом наименования природного материала на изделия из него, как в эпиграмме «К тѣмжде»: Сѣеш сребром ... (221).
Абстрактное метонимическое значение, сформировавшееся по ассоциации с исходным отвлеченным или конкретным смыслом, находим в Феофановой «песне победной» у лексем кре-пость15, щит16 (‘защита’), рог17 (‘сила, крепость, могущество’), род18 (‘народ, нация, соплеменники, сородичи’), церковь19 (‘вера’): Коликия зде врагом возрастоша роги...! (213); …дати крепость и щит нерушимый… (210); …церковь попра-ти… (209). Подобные значения у слов щит и рог фиксируются неоднократно в «высоких» песнях-одах, кантах и посланиях Феофана к императрице Анне (помимо «Епиникион…», «Ея императорскому величеству на пришествие в село подмосковное Владыкино», «Всяк себе в помощь вышняго предавый...», «Прочь уступай, прочь»): А вознесет бог Силы твоей рог... (218); Да всегда щит твой Россиа имѣет… (219); Ты мой заступник, ты мой и щит твердый… (224). Эти метонимические словоупотребления обнаруживаются в библейских и иных церковнославянских источниках и не являются, разумеется, окказиональными – см., например, для лексемы рог20. Предметно-конкретные значения слов щит, крепость, рог, церковь как неотъемлемых атрибутов соответствующих качеств и процессов, смежных с ними, уместнее, на наш взгляд, рассматривать как мотиваторы метонимических переносов, хотя вполне возможно для иных контекстов и толкование семантических трансформаций этих имен в качестве метафорических моделей (см., например, для слова крепость в позиции предиката при субъекте Бог в «Великих Минеях-Чети-ях»: Ты еси боже крѣпость наша...21).
Метонимический перенос нередко обусловливается использованием абстрактного существительного в форме множественного числа, что свидетельствует о влиянии формообразования на семантику лексемы. Так, известное старославянскому языку прямое значение слова молва ‘ропот, выражение неудовольствия’ при употреблении во множественном числе получает смысл ‘факты проявления недовольства: восстания, мятежи, бунты и т. п.’, возникающий в результате конкретизации отвлеченной семантики в направлении «состояние → конкретное его проявление»: … молвы … восташа… Укрощева-ти молвы … (213) – контексты из «Епиникион…» 1709 года. Отвлеченное существительное сила получает переносный смысл ‘войско, воинство’ также при употреблении как в единственном, так и во множественном числе в песне «За Могилою Рябою» 1711 (?) года: … российския силы … загримѣли… поганская сила … зашумѣла… (215).
Интересны метонимии, возникающие при переосмыслении прецедентных имен античного и христианского тезауруса, мифологических персонажей в качестве культурных знаков (Аполлон, Парнас – символы искусства, Марс – войны и пр.): Да страшн ый там Марс жѣстокий гримѣл … (214); Во всю нощь там Марс шел дикий. (215); Объемлет тебя Апполин великий… (217); О тебѣ поют парнасские лики … (217). Таким образом, метонимизация мифонимов ярко доказывает, что перенос по смежности оказывается важным средством символизации мира. По этому поводу Феофан в своей поэтике замечал, что поэту, прибегая к вымыслу, не следует смешивать имена языческих божеств и христианского Бога и
«обозначать именами богов доблести героев; пусть поэт не говорит “Паллада” вместо мудрости, “Диана” вместо целомудрия, “Нептун” вместо воды, вместо огня – “Вулкан”; их имена можно употреблять лишь ме-тонимически»22.
К метонимическим перифразам Феофан прибегает в переложении псалма и канте («Всяк себе в помощь вышняго предавый...», «О суетный человече, рабе неключимый...») в связи с мотивами божественной истины и заступничества, неумолимого хода времени и смертного часа: Велит бо своим слугам велелѣпным стрещи тя вездѣ оком неусыпным . Слыши самого неложное слово … (224); А незапно день послѣдний Разрушит твой живот бѣдный. И в той час темный Пойдешь в ров земный И в прах твой наслѣдный … (225) – в основе перифрастических оборотов здесь лежат ассоциации в направлении инструмент (око, произнесенное слово) → процесс (о постоянном, внимательном надзоре – ср. с недреманное око ; об изречении истины), время → вечность (час, день в сравнении со смертью); часть → целое (вырытый для захоронения ров, могила как часть земной поверхности) или, напротив, целое → часть (тело усопшего, с одной стороны, и его недолговечные останки – с другой).
Некоторые Феофановы контексты подтверждают тяготение поэтического дискурса к мето-нимизации имен прилагательных – например, в послании «Феофан архиепископ Новгородский к автору сатиры» 1730 года, посвященном литературным успехам Антиоха Кантемира: мир… гнѣвливый … пером смѣлим … (217). В этом случае атрибутом, приписываемым в узусе лицу, при олицетворении явления или генерализации признака наделяется неодушевленное либо собирательное понятие23.
К синекдохе Феофан прибегает в «Епини-кионе» для создания перифрастического образа поэзии, трансформируя ассоциацию по оси смежности «поэзия, песнопение → лира, “орган рифмотворческий”, “ветийские уста”»: …наипаче ныне нам желати Достоит многих устен , ибо ниже златый Орган рифмотворческий воспети довлеет Нашей ныне радости, ниже что успеет Ветийских устен слово… (209).
Антитеза русского и вражеского (шведского) воинства подчеркивается использованием синекдохи, основанной на назывании части вместо целого: …моя… десница со Петром на брани Будет… (210); …кий лик будет равный Сей побѣдѣ? (213); И погрузи во крови главы прокля- тыя… (209); …ожесточи тогда Сердца супо-статския… (210).
Синекдоха реализуется Прокоповичем в «Епи-никионе» и песне «За Могилою Рябою» также при употреблении форм единственного числа в значении собирательной, нерасчлененной множественности: …егда уже бяше Внутр отчества супостат свирѣпий и дивый… (209); Падеся супостат наш лютый!.. (210); Укри труп свѣйский поле… (210); Пришол турчин многолюдный... (215).
Синекдоха формирует выразительные риторические обращения, в том числе в акте автокоммуникации – например, в шутливых стихах «на случай» «Благодарение от служителей домовых за солод новомышленный домовому эконому Герасиму» 1735 (?) года и в эпиграмме «Рѣчь господня к рабу малодушному» (? года): …ты, о бородушка , залучил солодушка … (222–223); О сердце трепетное! Перестань дрожати… (224).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, Феофан Прокопович следует в своем творчестве рекомендациям собственных трактатов по риторике и поэтике, разумеется, зиждущихся на античной традиции, согласно которым метонимия и синекдоха относятся к «главным» «словесным» фигурам речи (тропам), служащим для ее «услаждения» и применяемым как в «возвышенном» и «цветистом», так и в «низком» слоге поэзии. Разнообразные метонимические трансформации находим у Феофана как в торжественной оде-песне (по другой точке зрения, малой эпической поэме) «Епиникион», кантах (переложениях псалмов) и посланиях императрице Анне, так и в фольклорно-песенных стилизациях, шутливых стихах «на случай» и эпиграммах, где, например, метафорическая палитра, в сравнении с одой, представлена очень ограниченно.
Наряду с применением и пополнением словаря метонимий и синекдох, Прокопович прибегает к расширению синтагматического потенциала перифраз и эпитетов, применяя прием переноса значения атрибута путем семантико-синтаксического смещения, когда признак приписывается не тому предмету, с которым связан привычной ассоциацией, обусловленной объективными логическими связями между объектами в окружающем мире.
ВЫВОДЫ
Метонимии и синекдохи Феофана Прокоповича в большей своей части являются узу- альными, соответствуя известным языковой системе направлениям переносов по смежности места и находящихся на нем лиц, материала и изделий из него, целого и части, единичного и множественного либо собирательного понятий, абстрактного и его конкретных проявлений. Прокопович также использует известные летописным и библейским источникам метонимии, привлекает античные образы, то есть опирается на традиционную топику. Окказиональные метонимии и синекдохи появляются у него в пери- фразах, риторических обращениях и при создании эпитетов-гипаллаг.
Таким образом, качественный и количественный спектр пространственных и ситуативных метонимий, синекдох, метонимических перифраз и эпитетов-гипаллаг в разножанровых стихотворениях Феофана доказывает богатство слога ранних русских поэтов эпохи барокко и силлабики, что в будущем могло бы стать материалом для создания баз данных и лексикографических изданий.
Список литературы Тропы в стихотворениях Феофана Прокоповича: метонимия и синекдоха
- Алексеев А. А. Очерки и этюды по истории литературного языка в России. СПб., 2013. 476 с.
- Балашова Л. В. Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее. М., 2014. 496 с.
- Бирих А. К. Метонимия прилагательных в современном русском языке // Вестник ЛГУ. Сер. 2. 1987. Вып. 1. С. 62—74.
- Буранок О. М. Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой половины XVIII века. М., 2014. 444 с.
- Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970. 209 с.
- Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14: Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. С. 193—206.
- Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX—XX вв. / Отв. ред. М. Л. Гаспаров, В. П. Григорьев, Л. Л. Шестакова. Вып. 1—5. М., 2000—2017.
- Патроева, Н. В. «Епиникион» Феофана Прокоповича в риторическом аспекте // Словесность и история. 2022. № 3. С. 72—86.
- Патроева Н. В. Отражение теоретических воззрений Феофана в его поэзии // Русская литература. 2024. № 2. С. 107—118.
- Раевская О. В. О некоторых типах дискурсивной метонимии // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58, № 2. С. 3—12.
- Сандакова М. В. О механизмах дискурсивной метонимии прилагательного // Филологические науки. 2004. № 3. С. 106—112.
- Соколов А. Н. О «Поэтике» Феофана Прокоповича // Проблемы современной филологии: Сб. статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. М., 1965. С. 443—449.
- Копаниця Л. «Епиникион» Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратепю панепрично! поезil в письменствi XVIII столгття // Лгтература. Фольклор. Проблеми поетики: Зб1рник наукових праць. Кшв, 2012. Вип. 37, ч. 1. С. 156—161.