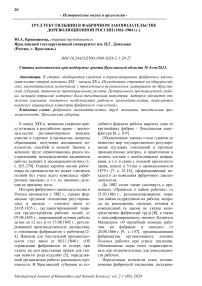Труд текстильщиц в фабричном законодательстве дореволюционной России (1861-1904 гг.)
Автор: Кривошеева Ю.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 2-1 (89), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщаются сведения о дореволюционном фабричном законодательстве второй половины XIX - начала XX в. Исследование строится на общероссийских законодательных источниках с привлечением региональных материалов по Ярославской губернии, типичному провинциальному региону Центрального промышленного района, ведущей отраслью которого была текстильная индустрия. Автором уделяется отдельное внимание гендерным особенностям рабочего законодательства, выделяются наименее защищенные категории фабричного «населения».
Фабричное законодательство, труд, женщина, текстильная промышленность, ярославская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/170203806
IDR: 170203806 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-2-1-20-27
Текст научной статьи Труд текстильщиц в фабричном законодательстве дореволюционной России (1861-1904 гг.)
К концу XIX в. женщина уверенно присутствовала в российском праве – законодательство регламентировало женское участие в торговле и промыслах, вопросы образования, получения женщинами документов, пособий и пенсий. Законы о женском труде ограничивались рядом постановлений, непосредственно касавшихся работы женщин и несовершеннолетних [1, с. 263-270]. Однако картина жизни работницы на производстве не может считаться полной без учета всего комплекса «фабричных законов», в т.ч. не имевших деления по признаку пола.
История фабричного законодательства в России начинается с 1882 г., однако формально трудовые отношения регулировались и прежде – отметим закон от 24.05.1835 г., регламентировавший порядок трудоустройства рабочих людей, от 07.08.1845 г., запрещавший ночные работы детям до 12 лет, и от 15.08.1845 г., регулировавший производственную дисциплину и отношения фабрикантов с рабочими [24]. Важным для текстильной промышленности стал закон от 04.11.1846 г. «Об ограждении фабрикантов от потерь при отдаче на дом крестьянам пряжи для тканья всякого рода изделий» [5], определявший организацию работы рассеянных производств. В Ярославской губернии из по- добного формата работы выросла одна из крупнейших фабрик – Локаловская мануфактура [6, с. 8-9].
Обозначенные законы стали одними из немногих мер государственного регулирования трудовых отношений в крупных промышленных центрах, и практически в полном составе с необходимыми поправками, в т.ч. в связи с отменой крепостного права, вошли в Устав о промышленности 1879 г. [7, с. 12-15], сформированный незадолго до появления фабричного законодательства.
До 1882 стоит также упомянуть о временных «Правилах о найме рабочих» от 31.03.1861 г., регламентировавших порядок найма подрядчиков на работы, вопросы их размещения, питания, лечения и компенсаций (в законе не указан непосредственно фабричный труд) [8], а также о некодифицированном мнении Комитета Министров «О врачебной помощи рабочим на фабриках и заводах» от 28.08.1866 г. [9, с. 147], предписывавшем фабрикантам организовывать лечение больных рабочих при угрозе эпидемии. Обозначенные меры стоит охарактеризовать как незначительные для повседневности рабочих.
Переломным моментом стало возникновение фабричной инспекции, надзорно- го органа, разделившего вторую половину XIX в. на «до» и «после». Изначально ее задачи ограничивались наблюдением за исполнением законов о работе малолетних, затем – подростков и женщин. К началу XX в., инспекция выполняла контролирующую, примирительную, административную, распорядительную и техническую функции [10, с. 123-124, 126].
Одним из важнейших в новом законодательстве стал закон от 01.06.1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» [11], целью которого было ограничение времени работы маленьких детей и подростков, а также предоставление им возможности получать образование.
По сравнению с законом 1845 г. новый закон должен был в большей степени облегчить положение юных рабочих – работа детей младше 12 лет без различия пола полностью запрещалась. Время работы для детей в возрасте до 15 лет ограничивалось 8 часами в день сменами не более 4 часов без учета времени на прием пищи, отдых и посещение школы. Малолетние по-прежнему не допускались к работе ночью, длительность которой нормировалась по-новому – с 9 часов вечера до 5 часов утра, т.е. на два часа дольше, чем прежде. Детский труд запрещался по воскресеньям и в праздничные дни. Рабочие до 15 лет не допускались к работе во вредных производствах, однако обсуждение чиновниками вопроса вредности текстильных производств началось только в конце рассматриваемого периода [12].
Законом 1882 г. фабрикантам также предписывалось предоставлять малолетним, не имевшим образования, возможность посещать училища 18 часов в неделю, однако в самой формулировке уже содержалась возможность уклониться от исполнения данного закона.
Правила о малолетних вступили в силу почти через два года, весной 1884 г. (об учреждении инспекции – 01.07.1882 г.). В течение двухлетнего «переходного периода» при особой необходимости допускалось привлечение к производству малолетних от десяти лет, также при необходимости и в отсутствии вредности произ- водств к ночным работам допускались малолетние рабочие от 12 до 15 лет, ночные смены ограничивались 4 часами.
Дополнительно порядок школьного обучения детализировался Мнением Государственного совета от 12.06.1884 [13]. Этим же положением утверждалась возможность привлекать малолетних рабочих от 12 до 15 лет к непрерывной работе по 6 часов в день, когда это необходимо «по роду производства» и не вредит здоровью детей (в виде временной меры на несколько лет).
Закономерным этапом в развитии фабричного законодательства стало появление закона «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» [14]. Закон представлял собой временную меру, устанавливаемую с 01.10.1885 г. «в виде опыта» на три года в отношении женщин и подростков с 15 до 17 лет, занятых в хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных производствах.
Данный закон интересен тем, что здесь едва ли не впервые за всю историю развития рабочего законодательства упоминаются женщины-работницы, которые, тем самым, на официальном уровне, наравне с детьми и подростками, были признаны одной из наиболее уязвимых категорий фабричного «населения», требовавшей особой защиты со стороны государства. Неслучайно и упоминание в законе в первую очередь текстильного производства, которое в рассматриваемый период стало одной из наиболее масштабных и доходных отраслей промышленности Российского государства. Текстильная Ярославская Большая мануфактура (ЯБМ) еще в конце столетия входила в десятку «главнейших фабрик и заводов» страны [15, с. IV-V, IX].
Одним из важнейших законов периода стали «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции» от 03.06.1886 г., вводившее новые условия найма с более детальной проработкой регулирования трудовых отношений на производстве [16].
По сравнению с законом 1830-х гг., практически не претерпели изменений формальности, необходимые для приема на работу. Законом оговаривалась необходимость предоставлять на хранение заведующему фабрикой виды на жительство для проживавших на квартирах при предприятии рабочих. Таким образом, в законодательстве отразилась уже устоявшаяся реалия рабочей среды – предоставление жилья от предприятия. В Ярославской губернии почти все крупные текстильные фабрики, в т.ч. ЯБМ, Норская, Локалов-ская, Романовская, Волжская мануфактуры, предоставляли рабочим жилье, причем при ЯБМ «казармы» для текстильщиков начали строиться еще в 1870-х гг., до принятия закона.
Своего рода новшеством стала проработка разновидностей сроков найма – Правилами выделялись наем на определенный срок, неопределенный срок, а также исключительно для исполнения определенного вида работ.
Правила уточняли вопрос найма замужних женщин и детей – при устройстве на фабрику и наличии отдельного вида не требовалось разрешения родителей или мужей. Данная норма должна была позволить женщинам и несовершеннолетним более свободно подходить к выбору места работы.
Закон 1886 г. уточнял и дополнял уже существовавшие положения. Так, руководству фабрик по-прежнему запрещалось менять оговоренные при трудоустройстве условия найма. В свою очередь, рабочие также не имели права требовать изменения этих условий, в т.ч. повышения заработной платы.
Положительной стороной Правил стала более продуманная регламентация порядка оплаты труда. Несмотря на то, что прежде в законодательстве прописывалась ответственность за невыдачу заработной платы деньгами, в 1886 г. вновь устанавливался запрет на осуществление расчета товарами, хлебом, купонами и др. Выплата заработка допускалась только в денежной форме, что свидетельствовало об устоявшихся практиках «натурального» расчета и неисполнении руководством прежних предписаний.
Порядок выплат зависел от типа договора – от одного раза в месяц для «срочников», от двух – для тех, кто не имел определенного срока найма.
Нельзя не отметить новую и крайне важную меру – запрет на вычет долгов из жалованья рабочих. Исключение составили предметы фабричных лавок и продовольствие. К примеру, распространенной практикой на ЯБМ было кредитование рабочих и их семей «харчами», суммы которых вычитались из жалования. Делопроизводство фабрики также сохранило просьбы беременных работниц о продлении им выдачи «харчей» до разрешения, что было важным подспорьем для женщин в период беременности и родов [17].
По данным исследователей, в 1880-х гг. ЯБМ внутренним правилом запретила рабочим брать в долг товара более чем на половину заработка [18, с. 199]. Законом же 1886 г. в счет долга разрешалось удерживать не более трети заработка холостых и не более четверти – женатых или вдовых рабочих с детьми. Ссуды для рабочих могли быть только беспроцентными.
Фабрикантам запрещалось взимать с рабочих деньги за медицинское обслуживание, освещение и пользование оборудованием предприятия. Плата за пользование банями, квартирами, чайными, столовыми от фабрики согласовывалась c инспекцией и могла полностью отсутствовать.
Законом также предусматривалась возможность развития торговли в «фабричных районах» для снабжения рабочих качественными товарами и продуктами по доступным ценам. В Ярославской губернии фабричные лавки (лабазы) работали при многих крупных текстильных фабриках. Открытие и ассортимент лавки должны были согласовываться с инспекцией [16].
Правила 1886 г. регулировали штрафование рабочих. Закон устанавливал лишь три причины для наложения штрафов – прогулы (от ½ дня и более), нарушение порядка (самовольная отлучка, опоздания, несоблюдение техники безопасности, чистоты, ссоры, драки, непослушание, появ- ление на работе в состоянии опьянения, азартные игры на деньги и др.), некачественная работа. Так или иначе, нарративы рабочих стабильно сохраняли упоминания о штрафовании рабочих «за каждый пустяк», как то: «задержалась в уборной», «нечаянно рассыпала початки», «не поклонился хозяину» и др. [19, л. 48].
В случае «крайних обстоятельств» (лишение свободы, болезнь, несчастный случай или пожар, смерть или тяжелая болезнь близких родственников), штраф не взимался. Общая сумма штрафов не должна была превышать трети заработка, иначе фабрикант мог расторгнуть договор.
Одним из важнейших достижений Правил стало создание штрафного капитала, аккумулировавшего деньги, удержанные с рабочих. Средства штрафного капитала расходовались строго на нужды последних.
Значительно расширены оказались и нормы, регламентировавшие прекращение договора с рабочими. Законом предусматривалось увольнение по обязательному взаимному соглашению сторон, по истечению сроков найма, по взаимной договоренности через две недели по желанию одной из сторон, в случае прохождения рабочим военной службы, высылки или заключения рабочего, при отказе в возобновлении вида на жительство, при несчастных случаях на фабриках. Фабрикант имел право расторгнуть договор в случае длительных неявок рабочих (более трех дней) без уважительной причины, в случае если рабочих находился под следствием или в заключении, в случае проявляемой «дерзости» и неподобающего поведения, угрожающих интересам предприятии или самому руководству, при наличии у рабочего заразной болезни. Так, ткачиха ЯБМ Виноградова, девица, была уволена и лишена места в казармах после обнаружения у нее сифилиса после родов. Рабочее место фабрика отдала более нуждавшейся здоровой семейной женщине [20, л. 24-25, 27]. Интересно, что наличие работы и жилья семейных текстильщиц зачастую зависели от поведения и образа жизни их родственников-мужчин – в случае совершения последними пре- ступлений, участия в нелегальных организациях и др., лучшее, на что могла рассчитывать женщина – доработать до окончания срока найма [21, с. 181-182].
Рабочие также ограждались новым законом от произвола фабрикантов, например, физического или психологического воздействия – побоев, оскорблений и т.д. Рабочий мог потребовать расчета при наличии пагубных условий труда, неподобающем снабжении помещением или питанием от фабрики, а также в случае смерти родственника или несения последним воинской службы.
Правила 1886 г. были распространены на Ярославскую губернию законом от 14.03.1894 г. [22], спустя почти десять лет после их утверждения. Примечательно, что еще в 1891 г. в политическом обзоре губернии указывалось на отсутствие в регионе фабричной инспекции, устройство которой виделось важным шагом на пути урегулирования трудовых конфликтов [23, л. 2-2 об.].
Семилетний опыт по итогам реализации законов о труде малолетних и женщин был отражен в новом законе «Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах» [24], утвержденном 24.04.1890 г.
Закон разрешал работу малолетних 1215 лет в случае производства работ на промышленном предприятии в воскресные и праздничные дни наравне со взрослыми рабочими и с разрешения фабричной инспекции. Подростки и женщины не допускались к работе в ночные смены (с 9 часов вечера до 5 часов утра) в хлопчатобумажном, полотняном, шерстяном, льнопрядильном, льнотрепальном производствах, а также производстве смешанных тканей. Перед ярмарками или в случае «несчастий», останавливавших производство, с разрешения присутствий по фабричным делам или губернаторов, женщин и подростков все же допускали к работе ночью, но обязательным условием был выход на смену не ранее полудня следующего дня. Закон разрешал женщинам и подросткам выходить в ночные смены в случае одновременной и совместной работы с главами своих семейств. В случае непрерывной восемнадцатичасовой работы предприятий в две дневные смены, предполагалась работа детей до 9 часов в сутки, не более 4,5 часов без перерыва. «Ночное время» здесь составляло 6 часов (с 10 часов вечера до 4 часов утра).
С момента обнародования закона на производство не допускались дети младше 12 лет, однако, дети 10-11 лет, занятые на фабриках ко времени вступления в силу Правил, продолжали работать. В своих воспоминаниях текстильщики неоднократно указывали на нарушения возрастных ограничений при приеме малолетних на работу. Особенно карикатурным выглядит нарратив Волжской фабрики, где администрация прятала «малолеток» в туалете во время инспекторских проверок [25, с. 14].
Одним из важнейших законодательных актов периода стал закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» 02.06.1897 г. (вступил в силу 01.01.1898 г.) [26], четко обозначивший базовые для трудового процесса понятия «рабочего времени», а также «сверхурочной работы» и «ночного времени».
На государственном уровне была закреплена единая продолжительность рабочего времени – 11,5 часов для взрослых рабочих без различия пола, по субботам и в канун двунадесятых праздников рабочий день сокращался до 10 часов, в канун Рождества работы прекращались после полудня, но могли быть остановлены и раньше. Для рабочих, занятых в ночные смены (в первую очередь мужчин), предусматривалось сокращение рабочего дня до 10 часов. Малолетние рабочие и подростки пользовались теми же выходными днями, что и взрослые. По договоренности рабочие могли выходить на производство в воскресные дни взамен рабочего дня, совпавшего с праздничным.
02.06.1903 г., одними из последних, приняты «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично- заводской, горной и горнозаводской промышленности» [27]. Данный закон с большим опозданием закрепил практику, утвердившуюся на фабриках в предшествующие годы – выдача пособий рабочим, в т.ч. беременным женщинам, увечным и больным, была отдана на откуп фабрикантам.
Вознаграждение назначалось рабочему в случае получения травмы на производстве и последующей утраты трудоспособности на срок более трех дней. Если травма происходила по вине рабочего, вознаграждение по закону не полагалось. Закон предполагал выплату пособий и пенсий. Деньги выдавались при травмировании от несчастного случая до полного восстановления трудоспособности. В случае полной потери трудоспособности рабочему назначалось пособие в размере половины текущего заработка. Пенсия определялась в размере 2/3 годового содержания рабочего при полной утрате трудоспособности, или в зависимости от степени ее утраты.
Пенсии начинали выдаваться рабочим со дня прекращения выплат пособий. Пенсионерам полагалась единовременная компенсация разницы между пенсией и пособием (если пенсия превышала размер пособия), за весь период получения последнего. Увечные малолетние и подростки, по мере взросления, получали заработную плату в размере среднего заработка чернорабочего для соответствующей возрастной категории. В случае увечий и травм фабрикант обязывался возмещать расходы рабочих на врачебную помощь по расценкам местных больниц, если рабочий не пользовался предложенной фабрикой бесплатной медицинской помощью.
При наступлении смерти от несчастного случая, во время лечения или в течение двух лет после прекращения лечения фабрикой выплачивалось пособие на погребение от 15 до 30 рублей. Семья умершего могла претендовать на получение пенсии, в т.ч. вдовы – 1/3 заработка супруга пожизненно, дети до 15 лет – 1/6 заработка, если жив один из родителей (1/4 – для круглых сирот). В отношении вдов, в случае их повторного вступления в брак, закон предполагал отмену пожизненных пенсионных выплат и замену их единовременной выплатой годовой пенсии в тройном размере. В случае смерти родителей их дети должны были получать выплаты в сумме пенсий обоих родителей. Общая сумма выплат членам семьи не должна была превышать 2/3 годового содержания умершего рабочего (высчитывалось отдельно), в случае превышения – вдовы и дети имели преимущественное право в получении денег. По соглашению сторон пенсии потерпевших и членов их семей могли заменяться единовременными выплатами.
Основания для получения пособий проверялись на предприятии – два раза в год получатель обязывался уведомлять фабрику о том, что он жив, вдовы – о новом замужестве. Пенсия рабочему могла быть пересмотрена или отменена в результате переосвидетельствования по требованию любой стороны спустя три года после ее назначения [27].
Закон вступил в силу 01.01.1904 г., однако в рассматриваемый период рабочие не смогли ощутить на себе всю его силу, целиком завися от настроений и взглядов руководства фабрик на «политику» в отношении их нужд. Ярославские предприятия, к примеру, обнаружили меньший размер ряда выдаваемых текстильщикам пособий по сравнению с тем, который устанавливался законодательно [28; 29].
Открытым остался статус вдовцов и вдовцов с детьми, поскольку законодательно были зафиксированы лишь пенсии и пособия для женщин, потерявших своих мужей, что, так или иначе, свидетельствовало о наличии традиционных патриархальных настроений в отношении положения женщин-работниц, которым была необходима материальная помощь в случае утраты «кормильца».
Несмотря на развитие фабричного законодательства в рассматриваемый период, его влияние на жизнь промышленных рабочих, в т.ч. текстильщиков, как «двигателей» развития индустрии, сложно оценить как значительное. Некоторые законы принимались как временные, меняясь с течением лет, другие не сразу распространялась на провинциальные регионы, отдавая насущные вопросы производственной и бытовой повседневности на откуп владельцев и руководства промышленных предприятий.
На государственном уровне не получило развития законодательство о фабричной медицине, не существовали законы, нормировавшие бытовую сторону жизни рабочих. В ряде вопросов социальноэкономического порядка официальное законодательство лишь фиксировало ряд практик, широко распространившихся на предприятиях еще до его вступления в законную силу.
Негативное влияние на реализацию нового законодательства оказывали обтекаемые формулировки, позволявшие фабрикантам обходить установленные порядки [30, с. 41], а незначительное наказание за нарушения, недостаточность штата фабричных инспекторов, непонимание фабрикантами требований времени, а также нежелание рабочих ввязываться в конфликты с руководством и терять работу, способствовали тому, что установленные государством нормы не давали желаемого эффекта и в итоге требовали пересмотра.
По мнению исследователей, приоритетным для инспекторского надзора оставался труд женщин и детей [31, с. 400]. Работница, долгие десятилетия трудившаяся наравне с рабочим-мужчиной, начала фигурировать в фабричном законодательстве страны лишь в последние десятилетия XIX в. Однако, в целом, за исключением ряда законов, основным действующим лицом трудового законодательства являлся рабочий как таковой, без половой принадлежности.
Законодатели ограничились инициативами по сокращению рабочего времени, но упустили из виду «женские проблемы» – до 1905 г., открывшего «период общественных потрясений», не появилось законов, нормирующих охрану женского здоровья, отпуска по беременности и родам, уход за детьми в течение рабочего дня. Решение подобных деликатных проблем зависело от воли фабрикантов.
Однако, если женщины-работницы, так или иначе, фигурировали в трудовом законодательстве, то малолетние и юные ра- ботницы, по сути, не отделялись законода- вращаясь в наименее защищенную катего-телями от рабочих тех же возрастов, пре- рию фабричного «населения».
Список литературы Труд текстильщиц в фабричном законодательстве дореволюционной России (1861-1904 гг.)
- Канторович Я.А. Законы о женщинах (Сборник всех постановлений действующего законодательства, относящихся до лиц женского пола). - СПб.: Изд. А. Канторовича, 1899. - 272 с.
- ПСЗ. II. Т. X. № 8157.
- ПСЗ. II. Т. XX. № 19262.
- ПСЗ. II. Т. XX. № 19283.
- ПСЗ. II. Т. XXI. № 20577.