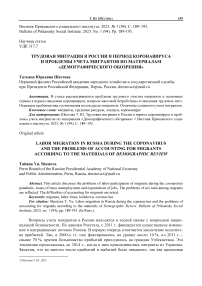Трудовая миграция в России в период коронавируса и проблемы учета мигрантов по материалам «Демографического обозрения»
Автор: Шестова Т. Ю.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (94), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы трудового участия мигрантов в экономике страны в период пандемии коронавируса, вопросы массовой безработицы и ожидания трудовых мест. Отражена проблематика соотношения полов среди мигрантов. Отмечены сложности учета мигрантов.
Мигранты, трудовые ресурсы, локдаун, коронавирус
Короткий адрес: https://sciup.org/14126480
IDR: 14126480 | УДК: 317.7
Текст научной статьи Трудовая миграция в России в период коронавируса и проблемы учета мигрантов по материалам «Демографического обозрения»
Вопросы учета мигрантов в России находятся в тесной связке с вопросами национальной безопасности. По данным Росстата, с 2011 г. фиксируется существенное изменение в миграционных потоках России. В первую очередь отмечается увеличение количества прибытий. Так, в 2000-х гг. оно фиксировалось на уровне около 10 %, а с 2011 г. – свыше 70 %, причем большинство прибытий приходилось на граждан Узбекистана. Эта тенденция продолжалась до 2014 г., когда к ним присоединились мигранты из Украины. Заметим, что во многом число прибытий и выбытий было завышено, так как временная
регистрация ограничивала присутствие мигранта в Российской Федерации сроком в полтора месяца. При этом, несмотря на резкие колебания в статистике, сальдо миграции оставалось неизменным.
Нужно сказать, что процедура учета мигрантов в России претерпела ряд изменений. До 2000 г. документы полностью оформлялись только при «постоянной прописке» мигранта и в основном для приезжающих из дальнего зарубежья (тем, кто переезжал из стран СНГ, это не требовалось). Осенью 2000 г. был введен порядок регистрации иностранных граждан, согласно которому мигрант должен был получить вид на жительство в отделе виз и регистрации органов внутренних дел, только после этого следовала регистрация в паспортных столах [1]. Естественно, из-за потока документации учет стал весьма приблизительным. Через два года по линии Министерства внутренних дел фиксируется попытка ввести учетный листок мигранта для постоянного и временного проживания сроком более года. Москва, как и некоторые регионы РФ, фактически проигнорировала требования учета.
В 2002 г. был принят федеральный закон об иностранных гражданах1, разрешивший вопрос о временном проживании. Однако огромным пробелом закона стало отсутствие ведения учета мигрантов. На местах некоторые службы продолжали вести листок учета, а некоторые, воспользовавшись текстом закона, перестали. В таких субъектах, как Москва, Брянская, Липецкая, Смоленская и Нижегородская области, не было зафиксировано ни одного иностранца. В Татарстане же, Ростовской, Челябинской, Саратовской и Белгородской областях иностранцев было более тысячи [2, с. 58]. Этот факт указывает на огромные пробелы в учете мигрантов в стране.
Только в 2006 г. был принят федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»2. У мигрантов с разрешением на временное проживание появилась возможность регистрироваться по месту жительства. Закон потребовал также передачи сведений в органы государственной статистики. Как следствие, число иностранных граждан в потоке миграций увеличилось с 10 % до 21 %.
К 2011 г. стало понятно, что и эти меры оказались малорезультативными. Фактически не учитывались люди, проживающие в России более девяти месяцев (к примеру, иностранные студенты). Учет прибытия был отлажен, а выбытия – нет. Часто выбытием считалось завершение временной регистрации: предполагалось, что человек в этот момент покинул страну.
С 2011 по 2018 г. объем чистой миграции по России составлял 2 025 тыс. человек, из которых только 999,2 тыс. были учтены как бы по старым правилам (за счет перемены места жительства), а 1 025 тыс. – по новым (за счет регистрации по месту пребывания и истечения ее срока) [2, с. 63]. Это предполагало, что изменение методики учета снизило миграцию на 1 млн человек. К тому же из-за изменений в правилах получения патента на работу от 2015 г. увеличились расходы мигрантов на оформление документов [2, с. 61–82]. В результате многие иностранцы «сдвинулись» в серую сферу или стали оформлять кратковременное проживание.
Интересно, что по половому составу среди долговременных международных мигрантов преобладают мужчины. Наиболее сильный дисбаланс отмечается среди граждан Таджикистана и Азербайджана (так, численность мужчин – мигрантов из Таджикистана превышает численность женщин более чем в четыре раза, особенно в трудоспособном возрасте), чуть меньший – среди граждан из Армении и Узбекистана. Из Китая прибывают практически одни мужчины. И это понятно: в традиционных обществах женщина не обладает такой же степенью самостоятельности, как мужчина, следовательно, менее присутствует в международной миграции. Для таких стран, как Украина и Казахстан, подобная диспропорция неактуальна. Начиная с 2010 г., когда миграционный поток из этих стран увеличился, половой состав становится также более сбалансированным. Госпрограмма содействия переселению в Россию зарубежных соотечественников1 усилила фактор семейственности в миграции. Новые же правила учета мигрантов обусловили превышение численности мужчин – выходцев из Средней Азии над численностью женщин (у мужчин больше побудительных мотивов постановки на учет по линии МВД, чем у женщин) [3, с. 6–11].
В период пандемии коронавируса трудовые мигранты столкнулись с резким сокращением рабочих мест в сферах торговли, строительства, общепита и клининга, где они традиционно были широко представлены. Соответственно, отмечается и падение количества пересылаемых за рубеж денежных средств (снижение в 1,7 раза).
В марте 2020 г. МВД фиксировало в стране более 1 млн граждан Узбекистана, около 500 тыс. – из Таджикистана, более 350 тыс. – из Киргизии. Всего в России предполагалось наличие 10,2 млн иностранных граждан, включая работников, студентов, туристов и др. С учетом работающих студентов иностранных работников по найму было около 5 млн человек. После закрытия границ обычной сезонной волны трудовых мигрантов, которая начинается в апреле-мае, не наблюдалось; снижение к предшествующему году составило около 1,3 млн человек. При этом максимально усилились алармистские настроения по отношению к преступности со стороны мигрантов. В средствах массовой информации часто появлялись подобные сюжеты, причем некоторые – трехлетней давности. Вторым триггером стала опасность распространения коронавируса среди мигрантов, проживающих в тяжелых бытовых условиях, как следствие, возможность усложнения эпидемической ситуации в городах при сокрытии заболевания трудовыми мигрантами.
В июне 2020 г. был проведен социологический опрос среди мигрантов в России и потенциальных мигрантов за рубежом, которые намеревались приехать в Россию в 2020 г. Из 8 тыс. возможных респондентов было отобрано чуть более 1,3 тыс. человек внутри России и столько же за рубежом. В России респонденты были в основном мужчинами, средний возраст составил тридцать девять лет, опрошенные владели русским языком; для большинства респондентов за границей русский не был родным. В исследовании отмечены недостаток респондентов-мигрантов из Средней Азии, а также повышенная доля армянских и молдавских представителей [4, с. 88–89].
«С двух сторон границы» ответы были практически идентичными: работали или искали работу около 70 % опрошенных; местом работы предполагались небольшие предприятия численностью до ста человек, где чаще всего фиксируется серая занятость. При этом со стороны РФ помощь мигрантам заключалась в пролонгировании документов, разрешающих труд в России, однако эти шаги плохо воспринимались основным населением страны, также во многом пострадавшим от ограничения трудовой деятельности в пандемию. Согласно данным опроса, неработающие мигранты – это или очень молодые люди, в основном студенты, или женщины-домохозяйки старше 40 лет; присутствие пенсионеров среди мигрантов незначительно.
В Москве чаще, чем по стране в целом, мигранты работали в сфере услуг и жилищнокоммунального хозяйства. Средняя зарплата мигранта составила 43,2 тыс. руб.
Напомним: наиболее жесткий режим самоизоляции соблюдался в Москве и Московской области, пиком безработицы стал апрель 2020 г.; в регионах этот процесс был выражен слабее. Сокращение труда мигрантов в Москве составило чуть более 40 %, а в регионах – 21 %. От сокращения труда меньше страдали граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины. Большие потери понесли граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана (до 50 % работников лишились места работы). Российские граждане составили 10 % уволенных в период локдауна. Около 18 % мигрантов оставались на рабочем месте, даже если им переставали оплачивать трудовую деятельность. Довольно часто работодатель оставлял за ними рабочее место и помогал хотя бы базовыми продуктами. Те, кто находился в поисках работы, уже не могли ее получить и находились в тяжелом материальном положении. В Москве каждый седьмой мигрант сообщал об отсутствии денег на еду, каждый третий – об отсутствии денег на одежду [4, с. 95]. При этом о возвращении на родину после открытия границ говорило не более 20 % респондентов. Предварительные данные говорили о «недоезде» около 3 млн человек в 2020 г. [4, с. 84–107].
Таким образом, изучение миграционных потоков показывает явное преобладание молодых мужчин из Средней Азии и более сбалансированную ситуацию среди уроженцев Украины и Казахстана. Тенденция возвращения по постоянное место жительства бывших граждан СССР усиливает роль семьи в среде мигрантов.
Определение численности мигрантов с 2000 по 2018 г. велось по разным методикам, что приводило к недоучету более 1 млн человек, что, естественно, вызывало недовольство граждан РФ относительно вопроса преступности среди мигрантов.
В период коронавируса наибольшее сжатие рынка труда произошло в Москве, оставив безработными до половины мигрантов. Тем не менее лишь 20 % из них планировали возвращение на родину и пытались выжить в Москве ресурсосберегающими сообществами. В целом в 2020 г. Россия недополучила более 3 млн рабочих рук.
Список литературы Трудовая миграция в России в период коронавируса и проблемы учета мигрантов по материалам «Демографического обозрения»
- Мкртчян Н. Возможные причины снижения иммиграции в Россию в 2000–2001 годах // Вопросы статистики. 2003. № 5. С. 47–50. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0119/analit02.php (дата обращения: 06.11.2022).
- Чудиновских О. С., Степанова А. В. О качестве федерального статистического наблюдения за миграционными процессами // Демографическое обозрение: электрон. науч. журнал. 2020. Т. 7. № 1. С. 54–82. URL: https://demreview.hse.ru/article/view/10820. Дата публикации: 15.04.2020.
- Мкртчян Н. В. Половые диспропорции в потоках долговременной миграции в России // Демографическое обозрение: электрон. науч. журнал. 2021. Т. 8. № 3. С. 6–19. URL: https://demreview.hse.ru/article/view/13264. Дата публикации: 22.10.2021.
- Денисенко М. Б., Мукомель В. И. Трудовая миграция в России в период коронавирусной пандемии // Демографическое обозрение: электрон. науч. журнал. 2020. Т. 7. № 3. С. 84–107. URL: https://demreview.hse.ru/article/view/11637. Дата публикации: 01.09.2020.