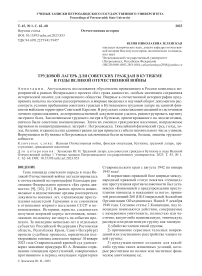Трудовой лагерь для советских граждан в Кутижме в годы Великой Отечественной войны
Автор: Зеленская Юлия Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конференция "Петрозаводск - город воинской славы"
Статья в выпуске: 1 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловлена проведением в России комплекса мероприятий в рамках Федерального проекта «Без срока давности», особым значением сохранения исторической памяти для современного общества. Впервые в отечественной историографии предпринята попытка на основе рассекреченных и впервые вводимых в научный оборот документов рассмотреть условия пребывания советских граждан в Кутижемском трудовом лагере на занятой финскими войсками территории Советской Карелии. В результате сопоставления сведений из источников личного происхождения, делопроизводственной документации удалось реконструировать картину лагерного быта. Заключенными трудового лагеря в Кутижме, ориентированного на лесозаготовки, сначала были советские военнопленные. Затем их сменило гражданское население, направляемое партиями из концентрационных лагерей г. Петрозаводска. Тяжелейший физический труд, голод, холод, болезни, издевательства администрации лагеря привели к гибели значительного числа узников. Вернувшиеся из Кутижмы в Петрозаводск заключенные были истощены, больны, лишены трудоспособности.
Великая отечественная война, финская оккупация, кутижма, трудовой лагерь, преступление, гражданское население
Короткий адрес: https://sciup.org/147240108
IDR: 147240108 | УДК: 94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.853
Текст научной статьи Трудовой лагерь для советских граждан в Кутижме в годы Великой Отечественной войны
Тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны актуализировалась в отечественной историографии благодаря реализации Федерального проекта «Без срока давности» [9], [10], [11]. В рамках проекта национальные и ведомственные архивы рассекретили документы военных лет, отражающие преступления нацистской Германии и ее союзников в отношении мирного населения СССР и военнопленных. Историки, юристы, следователи получили широкий корпус источников, позволяющих по-новому взглянуть на события прошлого. За последние несколько лет в отдельных субъектах Российской Федерации (Ростовская область, Республика Крым, Санкт-Петербург) прошли судебные процессы, юридически подтвердившие геноцид советского народа1. В январе 2023 года Ставропольский краевой суд удовлетворил заявление прокурора Ю. А. Немкина о признании геноцидом преступлений, совершенных противником в период оккупации территории
Ставропольского края с августа 1942 по январь 1943 года2.
В нормативно-правовой базе впервые международный правовой статус понятия «геноцид» как преступления против человечности был установлен «Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года. Согласно статье 2 Конвенции, под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
-
1) убийство членов такой группы;
-
2) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
-
3) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
-
4) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
-
5) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую3.
Цель статьи – анализ открытых архивных источников, их верификация с опубликованными документами личного происхождения. Это позволит убедительно показать, что жизненные условия, созданные финляндскими властями в Кутижемском трудовом лагере, полностью подпадают под определение понятия геноцида.
На начальном этапе Великой Отечественной войны 2/3 территории Карело-Финской ССР подверглись финской оккупации. В течение 1941– 1944 годов ненациональное население республики (представители не финно-угорских народов), которое не успело эвакуироваться летом – осенью 1941 года преимущественно из Ведлозер-ского, Заонежского, Олонецкого, Прионежского, Сегозерского и Шелтозерского районов, размещалось в концентрационных лагерях4. В лагерях Петрозаводска находилось около 25 тыс. человек из Прионежского, Заонежского, Шелтозерско-го районов КФССР и Подпорожского района Ленинградской области5.
Места принудительного содержания, находившиеся на территории КФССР, подразделялись на концентрационные (переселенческие), трудовые лагеря, тюрьмы и исправительные уч-реждения6.
Обращение к теме геноцида советского народа на региональном уровне в Республике Карелия проводится не впервые. На протяжении последних лет ведется плодотворная работа по выявлению, систематизации и введению в научный оборот документов о положении некоренного населения на оккупированной территории КФССР в 1941–1944 годах [1], [3], [4], [5].
Заметим, что историки из Финляндии, которые внесли значительный вклад в изучение темы оккупации КФССР [6], [7], [8], [12], не признают факт геноцида в отношении военнопленных и мирных граждан. В дискуссию с зарубежными коллегами на страницах научного издания вступил С. Г. Веригин. Он на конкретно-историческом материале показал проявление преступной политики финляндской администрации на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах [2].
Данная статья является продолжением серии научных публикаций, посвященных изучению геноцида граждан СССР в годы Великой Отечественной войны. Источниками для исследования послужили текст «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», на базе которой происходило фор- мирование на международном уровне правовой основы для определения, квалификации особо тяжких преступлений геноцида, а также материалы, опубликованные в сборниках докумен-тов7 и на сайтах федерального и регионального проектов8. Основу источниковой базы составили заявления людей, пребывавших в заключении в Кутижемском лагере, документы предварительного следствия, составленные сотрудниками НКВД и членами Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-финских фашистских захватчиков, свидетельства, собранные учеными Карельского научного центра РАН и записанные профессором Г. И. Григоровым. Специфика этих материалов заключается в наличии в них как фактологической, так и оценочной информации. В совокупности использованные в исследовании источники репрезентативны и имеют значительную информативную ценность. Большинство документов в форме научного текста вводится в исследовательский оборот впервые.
Работа проведена на основе историко-системного и нарративного методов научного познания, принципов научной объективности и историзма.
***
В период финской оккупации Кутижем-ский трудовой лагерь находился в Пряжин-ском районе КФССР на территории леспромхоза в районе станции Кутижма Кировской железной дороги. Расположение в лесных массивах близ линии железной дороги обусловило направление деятельности трудового лагеря – заготовка леса для дальнейшей транспортировки в Финляндию9.
Первоначально Кутижемский лагерь предназначался для советских военнопленных. Тяжелая физическая работа на лесозаготовках, избиения, скудное питание, нечеловеческие бытовые условия приводили к истощению, росту заболеваемости среди военнопленных, высокой смертности10. Из 250 лагерников от голода и побоев скончалось более 100 человек11. Осенью 1941 года способных самостоятельно передвигаться узников этапировали по железной дороге в Кондопожский район в лагерь для военнопленных. Немобильные пленные при посадке в вагоны провели ночь на улице при 30-градусном морозе. Утром тела замерзших людей были сброшены в ямы (Чудовищные злодеяния: 127). В последующем на работы в лагерь направлялось гражданское население из концентрационных лагерей г. Петрозаводска. Слух о жесточайшем режиме, установленном в Кутижме, быстро распространился среди заключенных петрозаводских лагерей. В источниках встреча- ется информация о случаях суицида, вызванного новостью о переводе на работу в этот лагерь12.
Прибывавшие в Кутижемский лагерь заключенные размещались в трех бараках с заколоченными окнами (Без срока давности: 219), обнесенными колючей проволокой в два ряда13. В одном бараке могло находиться 200–220 человек. Люди спали на нарах на голых досках. На человека приходилось так мало места, что он мог лежать только на боку14. В помещениях не было света и мебели. Для обогрева и просушки одежды использовались небольшие «печурки». В бараках царила антисанитария (Чудовищные злодеяния: 124, 128, 130, 132).
Вся жизнь в заключении подчинялась строго установленным правилам и распорядку дня. Подъем объявлялся в 5 часов утра. Людей выводили на улицу, где они находились в течение часа в любую погоду, ожидая получения завтрака15. После приема пищи в 7 часов утра они отправлялись на лесозаготовки16. До лесосеки, находившейся на расстоянии от 3 до 5 км, шли пешком17. Норма выработки для мужчин определялась в 2,5 м3, для женщин и подростков с 14 лет – 2 м3 сложенной в костры древесины18 (Без срока давности: 322). Заключенные делились на бригады по 60 человек каждая. Они охранялись патрулями, состоящими из финнов, которые за малейшую провинность били палками (Без срока давности: 244). Я. Ф. Галашев рассказывал: «В этом лагере не было ни пил, ни топоров. Хоть зубами грызи, но норму надо было дать. Все работали из-под палки»19. Завершалась работа в 18:00 для тех, кто заготовил установленный объем пиловочника. Те, кто не справился с планом, оставались в лесу до его выполнения20. Вечером населению лагеря полагался обед. Его начинали выдавать после возвращения всех узников с лесозаготовок в порядке очереди. Случалось, что обед приходилось ожидать около двух часов (Чудовищные злодеяния: 128). Затем заключенных выгоняли на корчевку пней и уборку камня. Работа завершалась примерно в час ночи. Таким образом, лагерники трудились по 18–20 часов в сутки21. А. Кузнецов вспоминал, как, возвращаясь с работы, люди падали на дороге, не в силах добрести до барака22. Финны заставляли поднимать упавших и подпирать их палками. Того, кто с палкой не мог устоять, по приказу начальника лагеря лейтенанта Алпо Мяенпяя хоронили заживо (Чудовищные злодеяния: 133). Рацион при двухразовом питании не отличался сбалансированностью и разнообразием. Хлеб (150 граммов) выдавался один раз в день. На завтрак и обед полагалась баланда из сваренных на воде нечищеной картошки или турнепса (Чу- довищные злодеяния: 128). Мизерный кусок хлеба люди съедали сразу в момент выдачи и до следующего утра питались одной водой23. Позднее продовольственное обеспечение немного улучшилось. Питание стало трехразовым. На завтрак выдавали чай, 150 грамм хлеба, три куска сахара, 40 граммов сыра или 2–3 штуки сельди. На обед заключенные получали мучную баланду, 150 грамм хлеба, кусочек колбасы. Вечером на ужин был суп с картошкой, 150 граммов хлеба (Без срока давности: 333).
За невыполнение нормы выработки человека лишали половины отведенного пайка. За повторное невыполнение плана он получал половину пайка и 25 плетей. За нарушение нормы в третий раз, помимо прочего, полагалось помещение в карцер на трое суток с «выгоном на работу» (Чудовищные злодеяния: 125, 128). Изнемогавшие от голода люди ели лягушек, мышей, собак, кошек и крапиву24, варили «вонючую похлебку из отбросов выгребной ямы» (Чудовищные злодеяния: 130). Некоторые ходили просить хлеб на станцию Кутижма. Если охранники замечали их на станции, приводили в лагерь и били розгами 25–30 раз (Без срока давности: 355).
Вещевое снабжение не осуществлялось. Лагерники не получали сменную одежду и постельных принадлежностей. В чем работали, на том и спали25. В бане не мылись по четыре месяца (Чудовищные злодеяния: 126). В бараках не было ни кадок с водой, ни умывальников, ни мыла26.
Измученные от холода, голода, непосильного труда люди заболевали и в надежде на медицинскую помощь обращались к лагерному врачу Колыхмайнену. В Кутижме врач наряду с начальником лагеря А. Мяенпяя принимал участие в издевательствах над заключенными. Он выгонял всех больных на улицу, выстраивал и начинал командовать. Того, кто под его счет не мог поднимать ноги от земли, бил палкой (Чудовищные злодеяния: 92). В качестве развлечения Колых-майнен заставлял заболевших делать утреннюю зарядку, бегать вокруг больницы, пилить и таскать дрова для укрепления мускулатуры27.
От голода, вшивости и антисанитарии в 1942 году в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа28. Основной метод лечения заболевания состоял в требовании к больным сгребать снег с крыш и громко петь «Катюшу», «дабы весь лагерь мог убедиться в их выздоровлении»29. В последующем финны привезли в Кутижму передвижную баню, куда отправляли как здоровых, так и больных людей30. Заключенных держали в натопленной до 120 градусов бане по 45 минут (Без срока давности: 333).
Из-за недостатка еды узники пили отвар из крапивы. От него у многих начиналась кожная реакция, образовывались белые пузыри. Врач Колыхмайнен в эти пузыри впрыскивал быстродействующий яд, и человек в скором времени в судорогах умирал (Чудовищные злодеяния: 70).
Таким образом, режим, условия труда и быта, созданные в Кутижемском трудовом лагере, были направлены на физическое уничтожение ненационального населения Карелии.
Проявлениями геноцида финляндских оккупационных властей в Кутижемском лагере стали причинение тяжкого вреда здоровью, лишение трудоспособности, убийство заключенных.
В лагере действовала система наказаний. За малейший проступок человек подвергался жестоким избиениям. Люди порой получали столько ударов розгами, что не выдерживали и умирали. Например, заключенные Иванов и Кушников умерли после получения 250 ударов31. Били плетками, розгами, прикладами, резиновыми палками с проволокой на конце. Излюбленным методом наказания лагерной администрации являлось избиение человека, обернутого мокрой соленой простыней32. Соль из простыни проникала в открытые кровавые раны и вызывала резкую боль33.
Серьезным наказаниям вплоть до расстрела подвергались заключенные за побег34. Пленные предпринимали десятки попыток сбежать из лагеря. Большинство из них в Кутижме ожидала верная смерть. Не боясь плетей, холодного карцера, люди бежали, надеясь попасть в другой лагерь, где режим и условия были несколько лег-че35. Пойманных при попытке побега называли karkuri (беглецы). Они подвергались еще большим издевательствам, чем остальные заключенные. Их избивали все, кто пожелал, начиная от охранника и заканчивая бригадиром (Чудовищные злодеяния: 129). И. П. Никонов вспоминал, что после побега его били при малейшем поводе: за то, что в костре одно полено оказалось длиннее другого на 1 см, за некрасиво сложенный костер и т. д. (Чудовищные злодеяния: 129). Наказывали бригадиров, если из их отряда совершался побег. Д. С. Филатова за побег подчиненных избили и посадили в «будку» (карцер). После этого он заболел и через некоторое время умер (Чудовищные злодеяния: 92).
Смертность в Кутижме была очень высокой. Архивные документы не позволяют назвать общее количество погибших. Однако воспоминания очевидцев событий содержат сведения, которые подтверждают этот факт. В период с 10 марта по 13 июля 1942 года в лагере погибло 440 человек, остальных 160 полуживых людей вывезли в Петрозаводск, многие из них впоследствии умерли36. Из другой партии в составе 40 человек через два месяца вернулись в Петрозаводск 18 тяжелобольных узников37. А. М. Сидоркин вспоминал, что за время пребывания в лагере видел ежедневные похороны от 3 до 12 человек умерших от голода или побоев. Замученных до смерти людей хоронили в одном месте в 150 метрах от лагеря38. До войны в Кутижме не было кладбища. В период оккупации появились многочисленные захоронения погибших людей39.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере Кутижемско-го трудового лагеря прослеживаются действия финляндских оккупационных властей, которые можно расценивать как факты проявления геноцида по отношению к мирному гражданскому населению КФССР. Исторические источники свидетельствуют о преступных действиях, указанных в пунктах 1–3 статьи 2 Конвенции ООН. В трудовом лагере совершались убийства, действия, которые несли реальную опасность здоровью и дальнейшему полноценному существованию, трудоспособности заключенных.
Условия труда и быта в лагере не соответствовали минимальным санитарно-гигиеническим, социально-психологическим, физиологическим требованиям, способствовали физическому уничтожению некоренного населения Карелии.
Преступления оккупационных властей периода Великой Отечественной войны требуют дальнейшего изучения, освещения в научной литературе и нуждаются в правовой оценке. Введение в научный оборот новых исторических источников будет способствовать приращению знаний об особенностях и жестоких проявлениях политики геноцида, противостоять попыткам искажения исторической памяти и фальсификации исторической правды.
Список литературы Трудовой лагерь для советских граждан в Кутижме в годы Великой Отечественной войны
- Веригин С. Г. Национальная политика финской администрации на территории оккупированной Карелии в 1941-1944 гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2009. № 4. С. 5-19.
- Веригин С. Г. Финская оккупация Карелии в 1941-1944 годах: дискуссии между российскими и финляндскими историками // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 6. С. 75-82. Б01: 10.15393Zuchz.art.2022.799
- Веригин С. Г. Экономические аспекты финляндской оккупации Карелии (1941-1944 гг.) // История. 2021. Т. 12. Вып. 7. С. 100-112.
- Веригин С. Г. Этнокультурная политика финской администрации на оккупированной территории Советской Карелии в 1941-1944 годах // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 3 (116). С. 25-29.
- Зеленская Ю. Н. Преступления против гражданского населения на территории оккупированных районов КФССР в годы Великой Отечественной войны (на примере Киндасовского концентрационного лагеря) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2022. № 4 (64). С. 43-58.
- Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска, 1941-1944. Петрозаводск: А. Н. Ремизов, 2006. 277 с.
- Лайне А. Гражданское население Восточной Карелии под финляндской оккупацией во Второй мировой войне // Карелия, Финляндия и Заполярье во Второй мировой войне. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 41-43.
- Лайне А. Национальная политика финских оккупационных властей в Карелии (1941-1944 гг.) // Вопросы истории Европейского Севера (проблемы социальной экономики и политики: 60-е годы Х1Х-ХХ вв.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 99-106.
- Михайлов И. Г., Брунова Е. Г. Преступления оккупационного режима нацистской Германии на территории Вяземского района Смоленской области в 1941-1943 гг. // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Т. 5, № 4. С. 139-155.
- Панарин А. А. Геноцид советского народа в отражении исторической памяти о Великой Отечественной войне // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4. С. 75-90.
- Савенков А. Н. Геноцид советского народа: от истории к праву, без срока давности // Государство и право. 2021. № 9. С. 7-30.
- Сеппяля Х. Финляндия как оккупант в 1941-1944 годах // Север. 1995. № 4-5. С. 96-113; № 6. С. 108128.