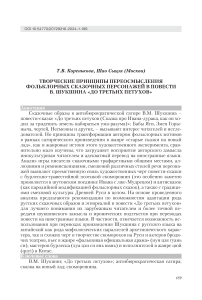Творческие принципы переосмысления фольклорных сказочных персонажей в повести В. Шукшина «До третьих петухов»
Автор: Коренькова Т.В., Шао Сыцзя
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Сказочные образы в антибюрократической сатире В.М. Шукшина -повести-сказке «До третьих петухов (Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума)»: Бабы Яги, Змея Горыныча, чертей, Несмеяны и других, - вызывают интерес читателей и исследователей. Но принципы трансформации автором фольклорных мотивов в рамках сатирического произведения в жанре «старые сказки на новый лад», как и жанровые истоки этого художественного эксперимента, сравнительно мало изучены, что затрудняет восприятие авторского замысла инокультурным читателем и адекватный перевод на иностранные языки. Анализ игры писателя сказочными трафаретными общими местами, аллюзиями и реминисценциями, смешений различных стилей речи персонажей выявляет преемственную связь художественных черт повести-сказки с бурлескно-травестийной поэтикой скоморошин (это особенно заметно проявляется в шутовском поединке Ивана с лже-Мудрецом) и антисказок (как пародийной модификацией фольклорных сказок), а также с традициями смеховой культуры Древней Руси в целом. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по возможностям адаптации ряда русских сказочных образов и этнореалий в повести «До третьих петухов» для лучшего понимания их зарубежным читателем и более точной передачи шукшинского замысла и иронических подтекстов при переводах повести на иностранные языки. В частности, отмечается возможность использования при переводах произведения Шукшина с русского языка на китайский как ряда мифологических параллелей архетипического характера, так и схожих черт в творчестве скоморохов на Руси и актеров бродячих театров, пьес в жанре «фальшивая официальная драма» (нун цзя гуань си), мастеров бурлеска (хуа цзи си янь юань) и исполнителей в жанре цюй (quyi) в Китае.
В.м. шукшин, «до третьих петухов», антибюрократическая сатира, сказка на новый лад, скоморошина
Короткий адрес: https://sciup.org/149145246
IDR: 149145246 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-199
Текст научной статьи Творческие принципы переосмысления фольклорных сказочных персонажей в повести В. Шукшина «До третьих петухов»
Шукшиноведение успешно развивается в Китае, где «значительным оказалось влияние на творчество китайских писателей произведений В. Шукшина. Герои, темы, сюжеты, народная культура, представленные в его творчестве, были тепло восприняты китайскими читателями и до сих пор остаются в центре внимания китайских литературоведов» [Мэн Ци 2022, 111]. Это подтверждают и специальные методические разработки по изучению его прозы китайскими студентами [Сяо Цзыцы 2016]. Вместе с тем поздние экспериментальные произведения писателя здесь почти неизвестны.
Перед китайскими переводчиками, которые задались бы целью адекватно передать замысел шукшинской сатиры, основанной на русских сказочных мотивах и при этом отсылающей к советским реалиям рубежа 1960 –1970-х гг., встает две группы художественных проблем.
Первая – поиск в национальной литературной традиции подходящей жанровой формы, которая позволила бы точно передать эзопов язык первоисточника, за вуалью сказочной образности увидеть «сатирические стрелы», направленные автором на бюрократов, околохудожественную тусовку и групповщину в творческих союзах. Вторая группа проблем связана с подбором сопоставимых образов китайских фольклорных персонажей.
Предлагаемый анализ особенностей поэтики произведения В.М. Шукшина «До третьих петухов (Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума)» ставит своей целью наметить пути преодоления этих трудностей.
Методы
При изучении особенностей художественного эксперимента Шукшина остановимся в первую очередь на системе сказочных персонажей потому, что именно через них автор проецирует коллизии своего произведения на фольклорные сказочные сюжеты (первичные тексты). Важность изучения этого аспекта связан с тем, что «во многих работах расшифровка персонажей отсутствует» [Горбушин, Обухов 2018, 170].
Теоретико-методологическая основа работы – идеи В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, труды российских шукшиноведов.
Результаты
Жанр шукшинской повести-сказки разные исследователи определяют по-разному [Горбушин, Обухов 2018, 169–170], но чаще всего относят к авторским сказкам.
Между тем ее поэтика, которая воспроизводит традиционные образы и модели национального фольклора и насыщена сатирическими подтекстами, заметно отличается от сочинений классиков сказочного жанра: Г.-Х. Андерсена, М. Горького, Е Шэнтао, А. де Сент-Экзюпери, Н. Носова, Цао Вэньсюаня или Дж. Роулинг. Также она не походит ни на литературно обработанные пересказы народных сказок (напр.: Ш. Перро, Пу Сунлинь, братья Гримм), ни на стилизации под русские народные сказки и былины, ни на авторские сказки-пародии, высмеивающие устаревшие литературные штампы.
Наиболее близки к поэтике «До третьих петухов» пересказы сказок на новый лад: «Волшебное кольцо» А.П. Платонова, песни-антисказки В.С. Высоцкого, «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л.А. Филатова.
Этот жанр имеет многовековую историю в мировой литературе, но специальный термин для его определения пока не устоялся. В статьях встречаются разные варианты: сказки и легенды на современный лад (на новый манер), осовремененные сказки, legends retold, modernized fairy tales, modernisierte Märchen, Modernisierte Volkssagen, modernes Märchen, fairy tale with a modern twist, innovative retelling and rewriting of a well-known tale, rewriting fairy tales [Malafantis, Ntoulia 2011, 2].
Австрийский школьный учебник SchuBu отмечает, что в подобных произведениях «язык адаптирован. <…> Действие происходит в наше время, а проблемы и персонажи адаптированы к нашему опыту. Но основная история остается прежней» [Märchen modernisieren].
В Китае сегодня разного рода постмодернистские сказки (hòuxiàndài tónghuà) и фэнтези по мотивам древних сказаний тоже популярны и стали объектом филологических исследований.
Что касается фольклорных персонажей повести-сказки Шукшина, то в целом они легко узнаваемы китайскими читателями. Баба Яга хорошо известна жителям Китая (bābā yàjiā) и имеет общие черты с лесными ведьмами (yāonǚ, lín zhōng nǚwū) китайского фольклора, а ее дочь похожа на традиционных демониц-соблазнительниц (nǚ yínyāo, yāojīng). Имеются прямые образные аналоги между русскими чертями и китайскими зловредными дьяволами (mó), которые пакостят и вносят хаос в жизнь людей, сбивая с пути истинного.
В традиции представлений китайского уличного театра эпохи Тан были аналогичные по характеру Мудрецу фарсовые персонажи «фальшивые чиновники» из сатирических антибюрократических пьес (nòngjiǎguān xì, yǐ guānyuán wéi xìnòng duìxiàng huájīyōuxì).
Змей Горыныч по характеру совсем не похож на китайских драконов (лун), приносящих удачу. Но в мифологии Китая есть трехголовый призрачный зверь (сань тоу хуань шоу), у которого три головы всегда расходятся во мнениях и часто так горячо спорят друг с другом. Поэтому подача образа Змея Горыныча переводчиком или режиссером инсценировки в ассоциативной связке с этим мифологическим персонажем будет понятна любому китайскому читателю или зрителю.
В русских сказках медведю часто дают уважительное имя и отчество – Михайло Потапыч и т.п., что связано с сохранившимся в Европе эхом тотемистических представлений об этом животном как «хозяине леса», зооморфном предке. В силу исторических причин в китайской культуре отношение к медведю как к тотемному зверю полностью стерлось из народной памяти; его аналогом в Китае скорее назвали бы тигра или даже дракона-лун [Линь Сюе 2019, 178–180, 182], символа гармонии и доброго начала «ян». Медведь в Китае будет восприниматься читателями не как приятель Ивана-дурака, а как персонаж, представляющий опасность для героя. Но вместе с тем есть в традиционном китайском образе мотивы, которые помогут при стилистически правильном переводе снять проблему разнокультурных рецепций. Так, в китайских преданиях медведь выступает неуклюжим тугодумом, что в целом похоже на русскую традицию восприятия сказочного зверя.
Переходя от межкультурных образных параллелей к анализу системы персонажей «До третьих петухов» в целом, остановимся на необычности ее структуры и влиянии на сюжет.
В указанном аспекте в первую очередь заслуживает внимания группа антагонистов главного героя: 1) Баба Яга, ее дочь и Змей Горыныч (лесная нечисть), 2) черти и 3) Мудрец. Пропп заметил: «Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб <…>. Эта функция чрезвычайно важна, так как ею собственно создается движение сказки» [Пропп 2001, 31].
Сразу выявляется несказочный парадокс: никто из перечисленных персонажей никакого формального «ущерба» Ивану-дураку не наносят. Все они унижают его, заставляют петь и плясать, мешают в срок выполнить поставленную задачу (ретардация), но завязка сюжета и основной конфликт как движущая сила действия связаны не с ними.
Главный конфликт Ивана и его волшебных помощников (Ильи Муромца и Атамана, безусловно положительных фольклорных персонажей) происходит с группой литературных героев. Именно эти соседи по библиотеке, своего рода «коммунальной квартире», и в первую очередь безымянный канцелярист и Бедная Лиза (как бы невеста Ивана-дурака) выдвигают абсурдное требование достать «справку, что он умный» [Шукшин 1998, 273–274]. Так, в завязке, при рассмотрении по методике Проппа, создается ситуация нехватки или недостачи, которая мотивирует поиски и становится отправной точкой хода действия. У Шукшина же исходный пункт развития сюжета отсылает к художественному опыту литературы абсурда: герой отправляется на подвиги потому, что хочет стать своим среди чужих, которые отрицательно к нему настроены.
Описание пребывания Ивана у лесной нечисти наиболее фольклористич-но. Шукшин включает в сюжет не только волшебных персонажей, известных с детства каждому русскому, но и использует характерные для сказок обороты и общие места: «пошел он куда глаза глядят», «Шел-шел, видит – огонек светится. Подходит ближе – стоит избушка на курьих ножках» [Шукшин 1998, 279], «Фу-фу-фу <…> Русским духом пахнет. Кто тут?» [Шукшин 1998, 281] и т.д. Колдунья-людоедка обманом пленяет гостя и хочет сжарить его в печи, но тот спасается, заговаривая ей зубы и сбивая с толку.
При этом в действие через речевые характеристики контрастно вводится прием осовременивания персонажей. Так, Баба Яга подчеркнуто использует характерные для СССР конца 1960-х гг. экспрессивные слова и выражения, узнаваемые, но невозможные в традиционных сказках: котэджик (с написанием через Э), паразит , симулянт , проходимец , « ёлки зелёные! »,
« Хам! – От хамки слышу! », « счас такой лангет покажу », « дурак, а нервный », « шмакодявки », « не фордыбачь » и т.д. [Шукшин 1998, 280–291].
Ироничное осовременивание касается и ситуаций. За тем, что Баба Яга собирается из стройматериалов построить «котэжик» и предлагает деревенскому парню вместо хождения за справкой пошабашить на стройке, узнаваемо проступала типичная ситуация «дачного бума» рубежа 1960–1970-х гг. после серии постановлений Совета Министров РСФСР и ВЦСПС [Нефедова 2015, 3]. Ехидное, временами натужно шутливое обсуждение проблемы усов у ее дочери и предложение Ивана-дурака «лечить грязью» отсылали к вызывавшим повышенный интерес в СССР тех лет методам депиляции с использованием персидского порошка «Нури» (на основе лечебной грязи с резким неприятным запахом) и похоже на советское эхо инициированным на Западе журналом “Ms” [Scott 2005, 302] дискуссий о социальных и медицинских аспектах проблем с гирсутизмом.
Сцена критики Змеем Горынычем текста народной песни «Хас-Булат удалой» за жестокость и сексуальность [Шукшин 1998, 288–289] вызывала у первых читателей рукописи Шукшина ассоциации с историей официального отказа в съемках фильма «Я пришел дать вам волю». Тогда, несмотря на высокую оценку опубликованного в журнале «Искусство кино» (№№ 5–6, 1968) сценария, отрицательное заключение в Госкомитете по кинематографии мотивировали тем, что автор якобы смакует жестокости. А требование «петь лаконичнее» отсылало к претензиям коллег-режиссеров на художественном совете студии им. Горького по поводу того, что бюджет фильма Шукшина повлек бы снятие с финансирования остальных проектов кинокомпании.
Вторая группа антагонистов Ивана-дурака – сонм чертей. Здесь совершенно не характерная для фольклорных сказок дифференциация персонажей из нечисти: тучный, изящный, есть музыканты, чертовка-девица «на красивых копытцах» (мода хиппи на сабо и туфельки на «танкетках» пришлась на рубеж 1960–1970-х), черт-стражник и другие. Диапазон их речевых характеристик тоже стилистически широк: от молодежного сленга ( маэстро , о’кей , шизó , халтура и т.д.) одних до канцеляризмов и заимствованного из идиша междометия « ша! ». Исследователи указывают и вероятного прототипа одного из чертей: «Не исключено, что в Изящном черте есть что-то от кинематографического наставника Шукшина – Михаила Ромма» [Горбушин, Обухов 2018, 177].
Медведь говорит о них: «Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь» [Шукшин 1998, 293]. Пестрота этой группы: «вялый бедлам – пауза такая после бурного шабаша» [Шукшин 1998, 294], – отзвук традиций средневековых дьяблерий [Стахорский 2015, 180, 220–221] и позднейших фантазий в духе некогда популярных стереокарт Les Diableries, а также русских сказок «о глупом черте» и скоморошин.
Вокруг эпизодов, связанных с чертями, действуют совершенно не характерные для сказок типы персонажей – нейтральные, т.е. сочувствующие герою, но никак ему не помогающие горемыки: медведь Михайло Иванович и монах Агафангел. Впрочем, и Иван-дурак им ни помогает, ни вредит (прямо), но посочувствовав, идет далее своей дорогой.
Анализ системы персонажей и хронотопа мира чертей выявляет еще большую его удаленность от фольклорных схем, чем это было в мире Бабы Яги. Чем дальше идет герой, тем все вокруг него в глазах современников Шукшина становилось менее сказочным и все более современным.
Наиболее осовременен мир Мудреца («дарителя искомого» – справки) и Несмеяны. Среди главных действующих лиц именно они наименее фольклористичны, но наиболее важны для замысла Шукшина.
В образе Мудреца одни шукшиноведы видят «шутовского короля», «краснобая и лжепророка» [Десятов 2000, 164], другие – художественное воплощение «культурной элиты общества» или «высокопоставленного чиновника от культуры», третьи – «лжемудреца» в споре с просветленным юродивым: «“умная дурацкость” Ивана противопоставляется лжеу-му Мудреца» [Левашова 2001, 12]. Третьи полагают, что так Шукшин зашифровал свою сатиру на конкретного высокопоставленного чиновника: «Предположительно ближе всего Мудрец к Демичеву, куратору по вопросам идеологии, истории и культуры; можно осторожно указать даже на внешнее сходство» [Горбушин, Обухов 2018, 173–174].
Интерпретаторы приписывают этому персонажу самые необычные ассоциативные пары. То он играет «роль травестивного Адама Кадмо-на <…> – двуполого, т.е. не утратившего ребра сверхмудрого существа» [Горбушин, Обухов 2018, 174]. То «…Ближайшими прототипами Мудреца являются Андрей Белый и Александр Блок» [Десятов 2000, 164]. То, «Мудрец в этой сказке – это КПСС, руководящая и направляющая сила общества, одновременно это откровенная карикатура <…> Мудрец будет свергнут... <…> скучающей золотой молодежью» [Самоваров].
Фразы Мудреца насыщены канцеляризмами, псевдонаучными оборотами ( налицо , резюме , исходя из потенциальных возможностей данных , манкируете и т.д.), архаизмами и фамильярно просторечными выражениями ( ну-с , шельмы ) вперемежку с ироничными неологизмами ( крайнебесовские тенденции , вульгартеория , полупендрик ), молодежным и журналистским сленгом ( не прохонжé , двинем резерв ) и т.д. Стиль его, как и настроение, постоянно меняются – он мгновенно переходит от угроз к панибратству, от поучений к высмеиванию или заискиванию.
Лже-Мудрец на ходу сочиняет небылицы и сам же в них верит. То припишет офенскому языку XIX в. сленговое богемное выражение начала 1970-х. То придумает историю: «Бывали <…> моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища – и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили» [Шукшин 1998, 306].
Борьба Мудреца и Ивана-дурака за смех Несмеяны, в образе которой некоторые шукшиноведы видят аллегорию публики [Горбушин, Обухов 2018, 174], – кульминация действия.
При всей архетипичности ситуации персонажи (окружение Несмеяны и она сама), их поведение и место действия (комната, где есть стремянка, чтобы повеситься) совсем не сказочные.
В сцене с Несмеяной уже первая фраза, разговорный оборот, вырывает действие из сказочного мира и переносит в узнаваемую читателем повседневность: «Несмеяна тихо зверела от скуки» [Шукшин 1998, 305]. Шукшин вводит в повесть психологический мотив и далее в развитии действия обыгрывает синонимичные характеризующие богемную жизнь выражения: «Тоска, хоть вешайся», «От скуки лезть на стену», «Ничего нового: было-перебыло».
Здесь от фольклорного первоисточника осталась только самая общая схема: смеховой поединок между Иваном и Мудрецом, который хотел выставить своего гостя-просителя дураком. Такой мотив не известен сказкам. В «Морфологии сказки» Пропп отмечает только случаи победы в состязании (П2) или добычу искомого (Л1) с применением силы или хитрости, но никак не шуток.
Исследователи подчеркивают особую символическую роль Ивана-дурака: «Шукшинская “сказка-быль” напоминает, что Русь крепко стояла “На Иване” и зовет восстановить вековые устои. И сказка, и реализм, и “формализм” – все против серого русского беса, мещанства» [Вертлиб 1992, 280].
Склонные к аллегорическому толкованию интерпретаторы видят в главном герое alter ego автора: «Иван из сказки – это он сам, Шукшин. Иван, который прикидывается дураком, “шифруется”. Шукшин должен отвоевать себе место в предисловиях, а значит, и в школьной библиотеке» [Горбушин, Обухов 2018, 171]. И при этом отмечают, что он поддавался на соблазны нечисти, «брал грех на душу», шел на сделки с совестью, но каждый раз был спасаем ее голосом: «Илья – это не только корни родной русской земли, которые питают Ивана, но и в первую очередь – совесть» [Горбушин, Обухов 2018, 178].
Действительно, с одной стороны, протагонист напоминает сказочного героя. Ванька наивен, доверчив, глуповат, но временами вдруг решает головоломные задачи и побеждает врагов по принципу «на каждую вражескую хитрость ответит непредсказуемой, но победоносной глупостью». Как и положено в волшебной сказке, он отправляется совершать подвиги, чтобы обрести невесту. Но сразу выясняется и совсем не сказочное: ему нужна не Бедная Лиза, а лишь «прописка по месту жительства». Указатели фольклорных сюжетов не дают примеров сказок, где герой покупал бы ум (а тем более справку) или отправлялся бы в путь за умом.
Обсуждение
Неприкаянность, междумирность шукшинского Ваньки-дурака дает основания искать его параллели не в сказках, но скорее – в переработках сказочных сюжетов в скоморошинах и преданиях о юродивых. Так, сцены Ивана с чертями имеют явные черты сходства с эпизодом встречи дурака, который «вздумал на Русь гуляти», с нечистой силой в скоморошине «Про дурня» из сборника Кирши Данилова.
Кульминация шукшинской повести-сказки, спор протагониста с Мудрецом, находит свои параллели в эпизодах преданий о шутовских диспу- тах юродивых с лжемудрствующими: «В осмеянии мира юродство тесно соприкасается с шутовством, ибо основной постулат философии шута – это тезис о том, что все дураки, а самый большой дурак тот, кто не знает, что он дурак. Дурак, который сам себя признал дураком, перестает быть таковым. Иначе говоря, мир сплошь населен дураками, и единственный неподдельный мудрец – это юродивый, притворяющийся дураком» [Панченко 1976, 151]. Именно там жест, «кинетическая фраза» [Панченко 1976, 129], оказывается весомее словесного доказательства. Более того, «слова “юродство”, “глупость”, “буйство” стоят в одном синонимическом ряду. <…> Иван-дурак похож на юродивого тем, что он – самый умный из сказочных героев, а также тем, что мудрость его прикровенна» [Панченко 1976, 127]. Шутовской поединок имеет свои аналоги в традициях странствующих сказителей и бродячих актеров: «скоморохи устраивали смеховые поединки» [Фрейденберг 1998, 102; Фаминцын 1889, 138–140].
Интерес писателя к традициям скоморохов подкреплял его желание изобразить конфликт статусов, когда «простой человек» отстаивает свое достоинство, посрамляя тех, кто погряз в самолюбовании, гордыне и высокомерии. Это также роднит шукшинских чудиков с юродивыми и скоморохами. «Церковь, попустительствуя греху в лице скоморохов, подвергала мирян своеобразному испытанию. <…> Одним из самых тяжких грехов на Руси считалась гордыня, нарушающая равновесие общества. <…> Защитой от гордыни служил смех, а главными носителями смеховой культуры как раз и были скоморохи» [Стахорский 2015, 117–118].
Скоморошество героя не побеждает гордыню и высокомерие его оппонентов, но помогает ему выжить (в том числе ценой помощи нечистой силе) в кромешном мире и вернуться ни с чем обратно на книжную полку. В этом смысле Ванька – один из ряда характерных шукшинских типов, трагедия которых «заключается в том, что их мысли никто не поддерживает, они… [вынуждены] всю жизнь быть “чужими для всех”» [Шао Сыцзя 2022, 81].
Выводы
Таким образом, осовременивание сказочных ситуаций и хронотопа в рамках предпринятого автором жанрового эксперимента ведет к переосмыслению всей системы персонажей. В «повести для театра» слились узнаваемая образная система народной сказки и парадоксальные приемы, которые, по мнению некоторых шукшиноведов, характерны для постмодернизма [Эшельман 1994].
Поэтика «До третьих петухов» напоминает скоморошины, «песни о веселых происшествиях или о происшествиях, хотя самих по себе не веселых, но трактуемых юмористически» [Пропп 1998, 40].
Ориентация писателя на фольклорную традицию, особенно переделки сказок и скоморошины, была вполне естественна для его творчества в целом. «Близость поэтики Шукшина скоморошьей традиции отчасти объясняется контактными связями писателя с фольклором Алтая» [Абашева
1987, 12]. Бурлескно-травестивная форма пародийного «антимира» ско-морошин, «перевертышей»-небывальщин, сатирическое высмеивание устаревших культурных штампов открывали перед писателем большие художественные возможности.
Корни образа Ивана-дурака и поэтики повести следует искать не столько в сказках, сколько в традициях гротескного творчества и быта странствующих «разумных дураков», «всем скорбям знатоков» [Стахор-ский 2015, 92–94, 100–104] и образе Семки-скомороха из сценария «Я пришел дать вам волю».
Использованная иносказательная форма, сложная игра фольклорными и литературно-сказочными образами и интертекстами позволяла Шукшину преодолеть цензурные ограничения, с которыми он ранее столкнулся при попытках экранизации сценария о Степане Разине или инсценировки повести-сказки «Точка зрения». Следы такой подготовки к ожидаемому объяснению с цензурой прослеживаются в черновых вариантах подзаголовков его произведений тех лет: «Сказка для детей старше школьного возраста», «фарсовое представление в 4-х сценах», «опыт современной сценической сказки» [Шукшин 1998, 509].
То, что Шукшин рассчитывал на постановку «повести-сказки» именно на сцене (или как минимум, в радиотеатре), говорят и мемуаристы, и такие вставленные в текст театральные приемы, как реплики в зал: «Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело!» [Шукшин 1998, 285], «Все терпеть да терпеть! Только и умеем – терпеть» [Шукшин 1998, 314] и др.
Чудик Ванька должен был пробуждать в сознании современной автору публики архетипические образы правдоискателей Древней Руси.
Стилистически правильной передаче замысла Шукшина для китайской аудитории помог бы учет жанровой связи повести-сказки со скомо-рошинами, поскольку в Поднебесной ценят творчество своих бродячих актеров (liúlàng yìré, shuǎ hóu rén, píhóu xì, qūyì, zhǐyǐngxì, huájīxì yǎnyuán и др.) и их юмористические или злободневно сатирические импровизации.
Смысл стилистической игры в «литературной скоморошине» Шукшина, основанной на смешении просторечия, молодежного сленга, бюрократизмов и диалектизмов, при переводе на китайский язык будет адекватно передан и воспринят читательской публикой и научными кругами.
Список литературы Творческие принципы переосмысления фольклорных сказочных персонажей в повести В. Шукшина «До третьих петухов»
- Абашева М.П. Проблема комического в советской прозе 60–70-х годов (В. Шукшин, В. Белов): автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.02. Москва, 1987. 21 с.
- Вертлиб Е.А. Русское – от Загоскина до Шукшина: (Опыт непредвзятого размышления). СПб.: Библиотека «Звезды», 1992. 403 с.
- Горбушин С.А., Обухов Е.Я. «До третьих петухов» как исповедь-завещание Василия Шукшина // Новый мир. 2018. № 5. С. 168–180.
- Десятов В.В. Шукшин и мудрецы (духовные прототипы персонажа сказки «До третьих петухов») // «…Горький, мучительный талант». Материалы V Всероссийской научной конференции «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество». Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2000. C. 160–174.
- Корепова К.Е. Полное собрание древних простонародных сказок // Старая погудка на новый лад: Русская сказка в изданиях конца XVIII века. СПб.: Тропа Троянова, 2003. С. 5–14.
- Левашова О.Г. К вопросу о генезисе «странного» героя Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Культура и текст. 2001. № 6. С. 41–52.
- Линь Сюе. Русский «медведь» и китайский «лун»: зоометафора в русском и китайском политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2019. № 5(77). С. 177–184.
- Мэн Ци. Изучение произведений Василия Шукшина в китайском литературоведении // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2022. Т. 22. Вып. 1. С. 110–113.
- Нефедова Т.Г. Российские дачи в разном масштабе пространства и времени // Демоскоп Weekly. 2015. № 657–658. С. 1–20.
- Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Л.: Наука, 1976. С. 91–194.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. 143 с.
- Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. 351 с.
- Самоваров А.В. Шукшин – гуру нового русского мира // Proza.ru. 2016. URL: https://proza.ru/2016/08/21/960 (дата обращения: 25.07.2023).
- Стахорский С.В. Театральная культура Древней Руси. Москва: ГИТР, 2015. 512 с.
- Сяо Цзыцы. Изучение рассказов В.М. Шукшина китайскими студентами // Актуальные проблемы современности: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции «Альтернативный мир». Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2016. С. 233–238.
- Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб.: Типография Э. Арнгольда, 1889. 191 с.
- Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература, 1998. 798 с.
- Шао Сыцзя. «Трагедия безразличия» в творчестве В. М. Шукшина // Modern Humanities Success (Успехи гуманитарных наук). 2022. № 5. С. 78–84.
- Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 6 кн. Кн. 3: Странные люди. М.: Надежда-1, 1998. 528 с.
- Эшельман Р. Эпистемология застоя. О постмодернистской прозе В. Шукшина // Russian Literature. 1994. № 35. С. 67–91.
- Malafantis K., Ntoulia A. Rewriting fairy tales: New challenge in creativity in the classroom // Extravío. Revista electrónica de literatura comparada. 2011. no. 6. URL: www.uv.es/extravio/pdf6/malafantis_ntoulia.pdf (дата обращения: 25.07.2023).
- Märchen modernisieren // SchuBu. Deutsch 1. URL: www.schubu.at/p396/maerchen-modernisieren (дата обращения: 25.07.2023).
- Scott L.M. Fresh Lipstick: Redressing Fashion and Feminism. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 368 p.