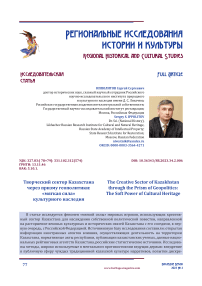Творческий сектор Казахстана через призму геополитики: "мягкая сила" культурного наследия
Автор: Ипполитов С.С.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Памятники истории и культуры
Статья в выпуске: 2 (34), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется феномен «мягкой силы» мировых игроков, использующих креативный сектор Казахстана для насаждения собственной политической повестки, направленной на расторжение вековых культурных и исторических связей Казахстана с его соседями, в первую очередь, с Российской Федерацией. Источниковую базу исследования составили: открытая информация иностранных агентов влияния, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, нормативные акты республики, публикации казахстанских ученых, данные национальных рейтинговых агентств Казахстана, российские статистические источники. Исследованы методы, широко используемые в ментальном противостоянии ведущих держав: внедрение в публичную сферу чуждых традиционной казахской культуре нарративов, попытки дискредитации общей истории и культурного наследия, насаждение в молодежной среде деструктивных практик, образов и этических установок через подконтрольные инструменты индустрии развлечений.
Государственная культурная политика, творческие индустрии, культурное наследие, "мягкая сила", казахстан, германия, сша, япония, китай, "пояс и путь"
Короткий адрес: https://sciup.org/170201733
IDR: 170201733 | УДК: 327.83:[ | DOI: 10.36343/SB.2023.34.2.006
Текст научной статьи Творческий сектор Казахстана через призму геополитики: "мягкая сила" культурного наследия
Последние десятилетия в общественнополитическом дискурсе ведущих мировых держав все чаще звучит термин «мягкая сила» в качестве определения алгоритма действий по навязыванию собственных интересов остальному миру без прямого использования вооруженных сил. Обманчивая и успокаивающая коннотация слова «мягкая» в этом определении не должна вводить в заблуждение: инструментарий «мягкой силы» весьма обширен и включает в себя отнюдь не только «образовательные и научные проекты», но и вполне «жесткую» дестабилизацию общественной жизни государств, которым «не посчастливилось» оказаться на «острие атаки». Особенно много примеров подобного воздействия можно наблюдать на постсоветском пространстве, где «мягкая сила» «западных партнеров» неоднократно приводила государства к трагическим последствиям. Исследование этих процессов показывает, что внедрение дестабилизирующих общество нарративов, как правило, начиналось с атаки на культурное наследие стран-объектов, когда традиционные национальные духовные ценности умышленно девальвировались, опошлялись, размывались целенаправленной пропагандой. Роль творческих индустрий в этом процессе каждый раз становилась определяющей: именно с помощью креативного инструментария развлекательной сферы внешним акторам удавалось внедрять в общественное сознание требуемые нарративы. Трагические события на Украине — наглядный тому пример. Объект настоящего исследования — креативный сектор другой постсоветской республики — Казахстана, где сегодня активно внедряются аналогичные «мягкие» технологии.
Исследование развития и функционирования творческих индустрий Республики Казахстан будет неполным без выявления и анализа внешних и внутренних социально- политических и социально-экономических факторов, оказывающих воздействие на креативную отрасль этой среднеазиатской страны. Корпус материалов такого исследования формируется на основе использования открытых информационных источников иностранных агентов влияния, действующих на территории Республики Казахстан, нормативной правовой документации органов государственной власти Казахстана, опубликованных результатов исследований казахстанских ученых, сведений рейтинговых агентств, а также российских статистических источников. При этом методологический инструментарий складывался с учетом возможностей структурно-функционального подхода, рассматривающего «мягкую силу» как целостную систему, обладающую определенным комплексом параметров и функций, а также институционального подхода, благодаря которому выявляются и описываются основные акторы, участвующие в формировании различных стратегий «мягкой силы» и анализируется их значение в аспекте реализации этих стратегий.
Сфера культуры, исторического и культурного наследия, креативной экономики и общественно-политического дискурса на постсоветском пространстве всегда являлись объектом активного воздействия многих заинтересованных сторон из ближнего и дальнего зарубежья. Креативная индустрия — неотъемлемая часть понятия «мягкая сила» — представляет собой чрезвычайно удобный инструмент реализации внешней политики для целого ряда мировых держав в силу своей открытости инновациям, вовлеченности в процесс формирования умонастроений общества и легкой «вхожести» в каждый дом посредством индустрии развлечений. Креативная сфера Казахстана представляет в этом смысле крайне удобный объект для влияния западной политической мысли. Растущие в последнее десятилетие националистические настроения, стремление на этом фоне разорвать культурные, научные, интеллектуальные связи с Российской Федерацией, заметное культурное обособление Казахстана в парадигме отторжения советского и российского культурного наследия — эти и сопутствующие процессы находят активную поддержку со стороны субъектов «мягкой силы» западных и восточных правительств [1] [2] [5] [12] [18] [19] [20] [29]. При этом многие исследователи справедливо отмечают, что упомянутое давление «мягкой силы» на страны региона в значительной степени является проекцией геополитического противостояния стран западного мира, с одной стороны, Китая и Российской Федерации — с другой [27].
Современные исследователи предлагают оценивать методологически размытую категорию «мягкой силы» по четырем основным формальным параметрам: политика, экономика, культура и социум [10]. В той или иной степени творческие индустрии являются неотъемлемой частью каждого из этих параметров: политические нарративы внедряются в общество посредством творческого инструментария, креативный сектор формирует заметную долю ВВП страны, культура и социум связаны с творческими индустриями непосредственно, являясь ментальным источником их существования. По названным причинам действующая в современной науке методология изучения и оценки «мягкой силы» государств при осуществлении ими своей внешней политики может быть использована при исследовании особенностей творческой сферы тех или иных государств. Более того, само явление «мягкой силы» может быть истолковано и рассматриваться в качестве элемента креативной индустрии тех государств, которые проецируют свои интересы и влияние во вне, а степень суверенности объектов их воздействия можно оценивать по величине доли «чужой» индустрии развлечений в ментальном общественном пространстве.
Так, автор исследования «Прикладной анализ влияния на Казахстан политики “мягкой силы” США, РФ и КНР» на основе статистического анализа модели изучения «мягкой силы» трех названных государств по параметру «культурно-цивилизационные ценности» оценил значение «soft power» Российской Федерации в Казахстане в 554,5 балла; США — в 87,1 балла, КНР — в 35,3 балла [14]. В этой условной балльной системе оценки культурноцивилизационных ценностей учитывалась распространенность языка субъекта «мягкой силы» на территории Казахстана, средств массовой информации, образования, науки. Такую оптимистичную оценку «мягкой силы» Российской Федерации обеспечил русский язык, которым владеют и на котором свободно общается подавляющее большинство жителей республики. Свою положительную роль сыграло и российское образование, широко представленное в Казахстане. Если же более внимательно отнестись к исследованию иностранного влияния на казахстанское общество, то полученный результат будет не столь вдохновляющим: за период с 2012 по 2014 гг. абсолютным лидером в кинопрокате был кинематограф США, примерно в 4 раза опережая российский кинематограф и в 8 раз — кинематограф китайский. В среднем в указанный период в Республике Казахстан в год на экраны выходило 156 американских, 49 российских и 13 китайских художественных фильмов [14], что свидетельствует о почти тотальном превосходстве американской массовой культуры в индустрии развлечений Казахстана.
Контроль за развитием творческих индустрий среднеазиатского региона вообще и Казахстана в частности становится в этом контексте крайне важным и удобным инструментом политического влияния. И целенаправленные действия в этом направлении предпринимаются достаточно активно. Так, в ноябре 2017 г. состоялся международный форум «Креативная Центральная Азия», целью которого было заявлено «построение влиятельной и вовлеченной лидерской сети посредством проведения серии международных ежегодных конференций и создания новых партнерств, и совместной работы с Великобританией для развития “новых экономик” в регионе Центральной Азии» (Цит. по: [22]). Организатором мероприятия выступил British Council — Британский Совет, структура, декларирующая «развитие сотрудничества в обла- сти образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами» [6]. Данная организация на треть финансируется Министерством иностранных дел Великобритании, по заявлениям бывших сотрудников, в состав British Council входят агенты британской разведки [30]. (В Российской Федерации деятельность Британского Совета была прекращена 17 марта 2018 г.) По утверждению казахстанских источников, «в первом Форуме “Креативная Центральная Азия” приняли участие 800 лидеров из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Великобритании, представляющих различные государственные органы, частный сектор и гражданское общество. Лидеры креативного сектора активно участвовали в дискуссиях, способствовавших построению новых отношений и планированию будущей совместной работы». По заверениям организаторов, не менее ста тысяч человек наблюдали за прямой трансляцией форума онлайн [22].
Другой иностранной организацией с государственным финансированием, занимающей заметное место в сфере творческих индустрий Казахстана, является Goethe Institut — Институт Гёте, германская неправительственная организация, пропагандирующая «международное культурное сотрудничество и популяризацию немецкого языка» [23]. Goethe Institut занимается организацией всевозможных массовых мероприятий в различных сегментах творческих индустрий: от джазовых концертов до дизайна городской среды. Так, Институт Гёте реализует в Казахстане программу «Культура в движении», проект «Городские уголки», онлайн-конкурс по культурному менеджменту «Менеджмент в сфере искусства», молодежный театральный фестиваль «Немецкий язык на сцене», фестиваль современной музыки «Made in Germany — Eegeru connect», конкурс «Рэп на немецком», финансирует молодежный лофт-центр Depoe Evolution Park, где работают коворкинг-центры молодых художников, и целый ряд других [22, с. 97].
Как и сто лет назад, сегодня одним из важнейших искусств по-прежнему остается кино. В ста тридцати шести отделениях Goethe Institut, учрежденных по всему миру, ежегодно проводится более двух тысяч кинопоказов — от архивных немых кинолент до современной германской кинопродукции. Киносеансы часто проводятся в университетах, а в некоторых странах — в специально оборудованных автобусах и даже поездах, как например в Марокко или Индонезии [17].
Среди других областей креативной индустрии, находящихся в сфере активной деятельности Института Гёте,— музыкальное и танцевальное искусство, радиовещание, телевидение, образование, театр, литература.
Самым сильным игроком после Российской Федерации на рынке творческих индустрий Республики Казахстан являются США. До середины 2010-х гг. Соединенные Штаты не рассматривали Казахстан в качестве приоритетного региона проецирования своей «мягкой силы» — их присутствие на среднеазиатском креативном рынке определялось общей внешнеполитической доктриной распространения так называемых «американских ценностей и демократии» в собственных национальных интересах. Ситуация резко изменилась в 2014 г., с началом создания антироссийской западной коалиции, когда ближайшие союзники Российской Федерации стали подвергаться усиленному давлению с целью их геополитического отторжения от единого с Россией евразийского пути развития. Роль культуры вообще и творческих индустрий в частности начала становиться все более значимой, разрушение общего историко-культурного наследия и единого ментального пространства России и Казахстана стало одной из приоритетных задач внешней политики США. Следует отметить, что Соединенные Штаты обладают для достижения своих целей в Казахстане существенным инструментарием в виде развитой системы подконтрольных средств массовой информации. На территории Казахстана ведут вещание девятнадцать американских кабельных телеканалов, среди которых Nickolodeon, MTV, Bloomberg TV и ряд других. Некоторая часть каналов была закрыта после ужесточения казахстанского законодательства о телерадиовещаниив 2018 г.[14, с. 57]
При этом следует учесть, что распространенность интернет-ТВ среди жителей Казахстана достигает 49%. Прогнозируемо наиболее популярен этот способ вещания среди молодой аудитории (15-17 лет), здесь он составляет 72%; в аудитории 18-34 лет — 74%; в аудитории 35–54 лет отмечается падение до 58%. У зрителей старшего возраста после 55 лет интернет-ТВ занимает нишу в 25% (по данным казахстанского портала PROFIT. kz) [26]. Очевидно, что молодежь является наиболее активным потребителем американского креативного продукта, имея соответствующие культурные предпочтения и технические навыки.
Вместе с тем в сфере распространения социальных сетей в Казахстане лидирует российская VKontakte (данные с 2013 по 2019 гг.): ее предпочитает в пять раз больше пользователей, нежели американскую соцсеть Facebook. Наиболее популярная социальная сеть Китая Qzone в Казахстане интересом не пользуется [14, с. 59].
Политику США по ментальному освоению постсоветского пространства активно проводит фонд «Сорос-Казахстан», имеющий свои опорные пункты в Астане, Караганде, Шимкенте и Актобе. При поддержке этого фонда созданы молодежные центры «Бiliм-Центральная Азия», «Step by Step», Центр современного искусства, Волонтерский дом, Национальный дебатный центр, Языковая школа, Центр демократического образования [3].
Заметное влияние на индустрию развлечений Республики Казахстан оказывает культурная политика Японии. Это влияние в настоящий момент не может перевесить воздействия на творческую сферу региона таких игроков, как Российская Федерация, Великобритания, США или Китай. Однако роль японских креативных технологий, нацеленных на ментальное и культурное завоевание центрально-азиатского региона, нельзя недооценивать. Популяризация традиционных культурных ценностей и исторического наследия, на которой многие десятилетия строилась внешняя культурная экспансия Японии, в последнее время сменилась новым трендом. «Сдувание» японского финансового пузыря и экономическая стагнация вынуждают политические круги смещать акцент с традиционного имиджа Японии как экономически мощной державы с богатой историей и тради- циями на продвижение массовой поп-культуры с весьма сомнительными нравственными и этическими стандартами. Так, некоторые исследователи отмечают, что «в условиях весьма непростого экономического положения и туманных перспектив дальнейшего развития Японии японский истеблишмент пришел к выводу о необходимости способствовать внешней экспансии своих предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в так называемых творческих отраслях, к которым принято относить рекламу, архитектуру, искусство, промыслы, дизайн, моду, видеопродукцию, игры, музыку, шоу-бизнес, издательский бизнес, создание программного обеспечения и его обслуживание, радио и телевидение, производство мебели, столовых принадлежностей, ювелирных изделий, продуктов питания, туристические услуги» [16, с. 202].
Наметившуюся тенденцию достаточно емко сформулировал бывший министр иностранных дел Японии Т. Асо: «Мы живем в эпоху, когда на национальную дипломатию оказывает большое влияние общественное мнение, формируемое обычными людьми. Поэтому мы хотим, чтобы поп-культура, которая весьма эффективна в воздействии на массовую публику, была бы нашим дипломатическим союзником» (Цит. по: [9, с. 38]).
Сегодня в Центральной Азии действует четыре совместных Центра развития человеческих ресурсов (которые также часто называют Японскими центрами). С августа 2002 г. аналогичный Центр открылся в Казахстане с отделений в Алма-Ате и Астане [9, с. 40].
Американский журналист Мак Грэй, исследовавший японскую молодежную культуру и роль манги, анимэ, моды, кино, электроники, архитектуры, кухни, отмечал, что японские экономические проблемы в известном смысле способствовали развитию креативной сферы. По статистике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японский рынок творческих индустрий составляет 7% ВВП страны и формирует 5% рабочих мест в экономике [16, с. 203]. И значительная часть продукции японских творческих индустрий предназначена на экспорт, где новые жанры анимации, кинематографа, дизайна и других креативных сфер экономики пользуются все большим интересом, главным образом — в молодежной среде.
Проблема влияния современной Японии на ближайших соседей и традиционных союзников Российской Федерации приобрела особую актуальность в последние годы. Агрессивные заявления политиков, незаконные экономические рестрикции в отношении нашей страны требуют не только экономического и дипломатического ответов, но и соответствующей осмысленной государственной культурной политики в пространстве творческих индустрий дружественных стран, где современные деструктивные технологии в сфере индустрии развлечений оказывают разрушающее воздействие не только на национальную культуру центрально-азиатского региона, но и ведут к фрагментации единого евразийского культурного пространства, базирующегося на общности исторического и культурного наследия.
Научная общественность Республики Казахстан отчасти понимает опасность подобного культурного и интеллектуального воздействия на молодежь через внедрение чуждых культурных нарративов в сферу индустрии развлечений. Однако специализированных трудов по названной острой проблеме на удивление мало: в частности, нам удалось обнаружить лишь одну научную статью, автор которой заявил о попытке исследования воздействия японской анимации на подрастающее поколение Казахстана. К сожалению, предпринятая попытка оказалась не совсем удачной: автор процитировал значительное количество нормативных актов, призванных оградить казахстанскую молодежь от опасного воздействия деструктивных технологий в креативной индустрии, но обещанного в заглавии изучения влияния феномена японского аниме на психику молодых людей в статье не обнаруживается. Вместе с тем автор привел в исследовании весьма полезную классификацию наиболее распространенных жанров японской анимации, пользующихся повышенным интересом у детей и подростков. Среди таковых аниме, тематическая направленность которых связана с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии [2, с. 46].
Из приведенной автором классификации нетрудно понять, насколько разрушительным для детской и юношеской психики может стать увлечение подобным «креативным контентом». Автор статьи делает закономерный вывод, что «многие аниме в виде восточных комиксов, именуемых “Манга”, “Манхва”, “Маньхуа” одобряют, поощряют и пропагандируют инцест, педофилию, суицид, убийство родителей и учителей» [2, с. 47].
Реальность угроз, которые несет в себе деструктивная этика японского аниме, нельзя недооценивать [11] [15]. Самым свежим событием, связанным с молодежными группами, ассоциирующими себя с аниме, стали массовые беспорядки с участием так называемого «ЧВК Рёдан» — субкультуры, основанной на аниме «Hunter x Hunter». Участники этих молодежных групп устроили массовые драки в нескольких российских городах — Москве, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге. Их последователи в феврале 2023 г. проявили себя в Казахстане [28].
Еще одним стратегическим игроком на поле творческих индустрий среднеазиатских государств является Китай. Крупнейший геополитический и геоэкономический проект КНР «Один пояс — один путь», переименованный позднее в «Пояс и путь», впервые был озвучен председателем КНР Си Цзиньпином во время посещения Казахстана и Индонезии осенью 2013 г. [25]. Однако работа по гуманитарной подготовке этого грандиозного проекта началась значительно раньше и затронула все государства, находившиеся в то время в сфере планирования будущей китайской инициативы.
В Казахстане уже в 2002 г. была создана совместная Комиссия по сотрудничеству в области культуры и гуманитарной сферы. С этого момента в целях популяризации своей национальной культуры и языка Китай почти ежегодно, в преддверии китайского Нового года, устраивает гастроли художественных коллективов по городам Казахстана: в 2011 г. это был творческий коллектив из Нанкина; в 2012 г.— Хайнаньский ансамбль народной песни и пляски, в 2013 г.—труппа Хунаньского театра оперы и балета [8, с. 63].
В Республике Казахстан регулярно организуются выставки традиционного китай- ского искусства, Дни культуры Китая. В июле 2022 г. в Нур-Султане состоялось первое после пандемии такое офлайн-мероприятие [7]. В республике ведут работу отделения информационного агентства «Синьхуа», газет «Жэньминь жибао» и «Гуанминь жибао», международного радио Китая, Центрального Телевидения Китая «CCTV», Синьцзянского телеканала (на казахском языке). Отделения ИА «Синьхуа» работают и на русском языке, что увеличивает охват казахской аудитории за счет русскоязычных граждан республики [8, с. 64].
Некоторые исследователи справедливо отмечают, что успешность гуманитарной экспансии Китая основывается на уважении к традиционным культурным устоям государств и народов, с которыми КНР развивает сотрудничество: «сознательный выбор в пользу традиционалистского содержания нарративов “мягкой силы” призван подчеркнуть китайский культурный суверенитет, независимость от западного масскульта. Китай через традиционализм сознательно сделал ставку на уход от острых политических дискуссий, тем самым не только минимизируя риски вербализации неудобных для Пекина сюжетов, но и компенсируя недостаток актуальных идеологических ценностей для внешней аудитории. Объекты китайской “мягкой силы” в Центральной Азии, в отличие от западной аудитории, придерживаются позиций политического суверенитета и отказа от грубого навязывания им чуждых ценностных догм» [19, с. 279]. Особая успешность такой гуманитарной политики Китая отмечается в Казахстане, занимающем место в первой десятке по количеству студентов в китайских вузах.
Однако наибольшее влияние на общественно-политический дискурс и творческие индустрии Республики Казахстан, по мнению экспертов, оказывает «мягкая сила» Российской Федерации [4] [8] [13] [14] [21] [24].
Как уже отмечалось выше, практически всеобщее владение населением Казахстана русским языком предоставляет России исторический шанс восстановить свое дружественное влияние на среднеазиатский регион и обеспечить сохранение единого социокультурно- го пространства «русского мира». Роль творческих индустрий в решении этой задачи трудно переоценить. Казахстанская аудитория традиционно с большим интересом относилась к представителям российской эстрады. Многочисленные концерты популярных исполнителей из России пользуются в Казахстане вниманием и интересом. Вместе с тем многие исследователи отмечают, что политика казахстанского руководства, направленная на культурное обособление страны от общего с Россией исторического и культурного наследия, начинает давать свои негативные результаты: «Казахстан проводит жесткую национальную политику — политику “казахизации”, направленную на возрождение “национальных, культурных, языковых ценностей”, усиление роли казахского языка и влияния казахоязычных кадров в государственном управлении. В частности, “сверху” оказывается активная поддержка отечественной эстраде и исполнителям. В силу этого, а также экономического кризиса в последние несколько лет, воздействие российской “мягкой силы” в сфере эстрады снизилось» [13, с. 32].
При этом автор процитированной выше статьи справедливо замечает, что популярность российских исполнителей, которой они до сих пор пользуются в Казахстане, обеспечена не целенаправленными усилиями российского государства в деле популяризации русской культуры, а традиционными и устоявшимися связями отечественных и казахстанских предпринимателей из шоу-бизнеса. Такое благодушное оставление политики «мягкой силы» «на самотек» в условиях острого геополитического противостояния в сфере культуры и смыслов чревато утерей российской творческой индустрией своих лидирующих позиций в креативном секторе Казахстана. Рецептом купирования возникающих на постсоветском пространстве рисков для реализации Россией собственной «мягкой силы» в креативной сфере автор видит создание альтернативы европейским и мировым творческим конкурсам и фестивалям — Евровидению, Евро-Азиатскому Форуму Моды и пр.— и вовлечение в эту орбиту представителей из дружественных и нейтральных стран, и особенно из постсоветских государств, где «стартовые позиции» для российской культурной экспансии все еще сильны.
Подводя некоторый итог в кратком рассмотрении творческих индустрий Республики Казахстан в контексте геополитики, допустимо сделать ряд выводов.
Во-первых, имеющийся массив доступных источников и литературы свидетельствует о резком обострении конкуренции мировых игроков за влияние на сферу творческих индустрий центрально-азиатских государств вообще и Республики Казахстан в частности. Субъекты «мягкой силы» используют креативный сектор Казахстана для насаждения собственной политической повестки, направленной на расторжение вековых культурных и исторических связей Казахстана с его соседями, в первую очередь, с Российской Федерацией. Внедрение в публичную сферу чуждых традиционной казахской культуре нарративов, попытки дискредитации общей истории и культурного наследия, насаждение в молодежной среде деструктивных практик, образов и этических установок через подконтрольные инструменты индустрии развлечений — эти и подобные им методы широко используются в ментальном противостоянии ведущих держав.
Во-вторых, прочные, на первый взгляд, позиции Российской Федерации в пространстве креативных индустрий Республики Казахстан, обеспеченные главным образом широким распространением русского языка в стране и историко-культурной близостью, оспариваются и подвергаются эрозии посредством инструментов «мягкой силы» коллективного Запада. Подобная политика недружественных России государств находит определенную поддержку в казахстанских элитах, проводящих целенаправленную политику национального культурного обособления. В среднесрочной перспективе подобная ситуация может привести к утере Российской Федерацией собственных инструментов «мягкой силы» в этой среднеазиатской республике, если не будет реализована государственная программа популяризации и поддержки российской индустрии развлечений, образования, туризма и других творческих индустрий.
Наконец, необходимо признать, что Китайская Народная Республика, также проводящая активную политику по гуманитарному освоению среднеазиатского региона, предлагает Республике Казахстан весьма конкурентную модель творческого сотрудничества, основанную на уважении к нематериальному наследию страны, историко-культурным традициям, вовлечении местной молодежи в образовательные и творческие проекты. Подобная «вежливая и уважительная» гуманитарная экспансия КНР в пространство творческих индустрий Казахстана также создает определенный вызов Российской Федерации, порождая необходимость конкурировать с мощными креативными ресурсами великой восточной державы.
The Creative Sector of Kazakhstan through the Prism of Geopolitics:
The Soft Power of Cultural Heritage
Список литературы Творческий сектор Казахстана через призму геополитики: "мягкая сила" культурного наследия
- Азимбаева С. "Мягкая сила" Великобритании в Центральной Азии // ORIENSS. 2021. № 11. С. 226-232.
- Абулгазин Е. С., Макенов Т. К. К вопросу о влиянии японской анимации на подрастающее поколение Республики Казахстан // Colloquium-Journal. 2021. № 22-2 (109). С. 46-51. EDN: METCGR
- Александров Д., Ипполитов И., Попов Д. "Мягкая сила" как инструмент американской политики в Центральной Азии. Казахстан // Россия и мусульманский мир. 2014. № 2 (260). С. 62-80. EDN: RXSHHH
- Бактыбаева А. Факторы, тормозящие развитие гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в ходе евразийской интеграции // Постсоветские исследования. 2021. № 5. С. 400-408. EDN: DIKUNB
- Берикбаева А. К. Арт-менеджмент как комплексная система продвижения казахской национальной культуры в условиях глобализации // Евразийская наука и искусство. 2019. № 3. С. 50-54.