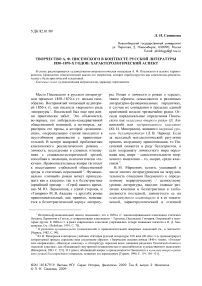Творчество А. Ф. Писемского в контексте русской литературы 1850-1870-х годов: характерологический аспект
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается художественно-антропологическая концепция А. Ф. Писемского в аспекте характерологии. Проводится типологический анализ его творчества, которое атрибутируется как классически-реалисти-ческое с беллетристической тенденцией.
Художественная антропология, характер, персонализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737046
IDR: 14737046 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Творчество А. Ф. Писемского в контексте русской литературы 1850-1870-х годов: характерологический аспект
Место Писемского в русском литературном процессе 1850–1870-х гг. весьма своеобразно. Воспринятый читающей аудиторией 1850-х гг. как писатель «верхнего» ряда литературы 1, Писемский был еще при жизни практически забыт. Это объясняется, во-первых, его либерально-консервативной общественной позицией, а во-вторых, характером его прозы, в которой «романическая», «персональная» стихия находится в неустойчивом равновесии с нравоописательной. В центре жанровой проблематики классического реалистического романа – личность, исследуемая в сложных отношениях с социально-исторической средой, способная к эволюции, психологически «текучая». Нравоописательные жанры тяготеют к воссозданию стабильной общественной среды и статичных персонажей 2. Функционально «личный» роман может принадлежать как к классике, так и к беллетристике (ярчайший пример – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, с одной стороны, и «Тамарин» М. В. Авдеева – с другой); роман нравоописательный, как правило, помещается в беллетристический корпус литерату- ры. Роман о личности и роман о «среде», таким образом, осмысляются в различных литературно-функциональных парадигмах, и случаи их совпадения в пределах единой креативной модели чрезвычайно редки. Отсюда парадоксальные определения Писемского как «классика второго ряда» (Л. Аннинский) или «непризнанного классика» (Ю. И. Минералов), явившего «верхний уровень беллетристики» (Л. В. Чернец). Если за исходный методологический регулятив принять координату нравоописания, то Писемский окажется в ряду беллетристов, а если координату личностного мира персонажа или, шире – самостоятельности творческого мышления – то, скорее, среди классиков 3.
В. М. Маркович, кстати, указавший в числе многих литературоведов на затруднительность отнесения Писемского к определенному иерархическому / ценностному уровню литературы, находит главные различия классики и беллетристики в злободневности последней, замкнутости ее на «сиюминутном настоящем» и в ее тематической, характерологической и стилевой шаблонизации [Маркович, 1991]. Различение творчески-индивидуального и нормативногруппового начал в качестве дивергенции «классической» и «беллетристической» ветвей национальной литературы рассматривают И. Гурвич [1990], Н. Л. Вершинина [1997], А. В. Чернов [1996].
Несомненно, ведущие персонажи Писемского обладают качествами национальнорусскими и общечеловеческими и поэтому преодолевают социоисторическую заданность беллетристических персонажей, определяемых конкретно-историческими и условно-психологическими параметрами. Писемский от 1840 до 1870-х гг. прошел те же стадии типологизирования героев, что и классический реализм: «лишний человек», герой-идеолог, правдоискатель. Достаточно странно, что «маленький человек», самый массовый тип литературы 1840-х гг., у Писемского, декларировавшего себя в качестве преемника Гоголя 4, почти не представлен и лишь трагически осмыслен в повести «Старческий грех» (1861 г.).
Писемский, равно как и другие крупные писатели 1850-х гг., углублял открытия Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Тип «лишнего человека» получает новую трактовку в творчестве Тургенева, Гончарова и Писемского. Миросозерцание тургеневского Рудина, воспитанного гегелевской школой мысли, апеллирует к возвышенно-гармоническому образу мира. « Экстатическое восприятие философии » (Д. Чижевский) поколения второй половины 1830–1840-х гг. трагически маркирует его ярчайшего представителя – Рудина, – не сумевшего примирить философствование с непредсказуемостью жизни. Тургенев исследовал идеологическое самосознание генерации «людей сороковых годов» не только на материале «исключительного» человека Рудина, но и на «среднем» социоантропологическом уровне (см.: [Маркович, 1982. С. 148]). Лаврецкий оказывается «лишним» не в силу своей личностной исключительности, а в силу социально-исторических обстоятельств. « Трагическая установка духа » (В. Зеньковский) Тургенева, субстанционально близкая онтологии Шопенгауэра, продуцирует трагедийную концепцию типа «лишнего человека»
в его творчестве, согласно которой человек подвержен неизбывным страданиям и зависим от внеличных факторов судьбы.
Гончаровского Обломова нельзя назвать собственно «лишним человеком». По наблюдению Н. Д. Старосельской, «Гончаров, быть может, в первый и на протяжении XIX столетия в последний раз изобразил трагедию русского сознания, не окрашенного байронической мрачностью, но тем не менее оказавшейся на обочине жизни – по вине собственной и по вине общества… Не имевший предшественников, тип Обломова не продолжился и в дальнейшем» [Старосельская, 1990. С. 37–38]. Характер Райского («Обрыв»), сохранивший в своей ментальной структуре «обломовский» след (по признанию романиста, « Райский - это проснувшийся Обломов »), все-таки свидетельствует в пользу «продолжения» типа Обломова в романистике Гончарова. Но Райский, справедливо полагает Н. Д. Старосельская, явился переходным звеном между «лишними людьми» и чеховскими интеллигентами [Там же. С. 100]. Значит, и характер Обломова может быть интерпретирован не как характер «лишнего человека», т. е. в культурно-историческом смысле, «человека сороковых годов» (см.: [Синякова, 2007. С. 82], а как человек более обширной в историко-культурном плане формации – условно говоря, «романтик эпохи “реализма”», нереализованная в конкретном социу-се (П. Рикёр) личность.
Писемский, в отличие от Тургенева и Гончарова, не только привносит бытовой компонент в структуру типа «лишнего человека», но и делает его определяющим в характерах демонического и созерцательного вариантов типологического инварианта. Его «романтики» дегероизируются и «забытов-ляются». Люди, обладающие «простым», естественным сознанием, напротив, рядом с ними «возвеличиваются» и одерживают нравственную победу над жалкими потугами «романтического» самоутвержения (Лиза Масурова – «Тюфяк», 1850; Вера Ен-заева – «Богатый жених», 1851; Савелий Молотов – «Боярщина», 1858). Даже нелепый Степан Сальников («Богатый жених»), в котором «простота» доведена до комической гиперболы («простота хуже воровства»), выигрывает нравственный поединок с «загадочным» Шамиловым.
«Демоническая» стихия определяет – в затухающей фазе культурного влияния романтизма – противоречивый характер Калиновича («Тысяча душ», 1858). Писемский исследует индивидуалистическое сознание человека постромантической эпохи, в котором искушения «мира сего» вытеснили прежнюю романтическую «мечту». Интенсивность переживания страдания от несовершенства мира осталась, но направлено оно было не на горнее, а на сущее, причем практически-ценное. Симбиоз идеи-страсти и «математического» расчета в психической организации героя-идеолога у Писемского не достигает метафизических глубин. Позже Достоевский исследует бездны безбожного сознания героев-идеологов Раскольникова и Ивана Карамазова и создаст роман-трагедию.
Писемский анализирует психосоциальные, а не духовно-метафизические факторы формирования идеологии человека, сменившего в культурно-историческом развитии тип «человека сороковых годов». Герой романов Писемского 1870-х гг. противоположен «обыкновенному человеку», ведущему типу в прозе писателя 1850–1860-х гг.; его неприятие «обыкновенных» обстоятельств жизни и судьбы и даже попытка бунта позволяют отнести его к необыкновенным натурам, но жизненный финал «ищущего героя» возвращает его в сферу частного и «обыкновенного» существования. Неизменность коренных законов бытия выражается у Писемского не в « великом спокойствии “равнодушной” природы », как у Тургенева, и не в циклическом законе « четырех времен года, то есть четырех возрастов », которые человек должен прожить « не пролив ни одной капли напрасно » из « сосуда жизни », как у Гончарова, – а в несомненном присутствии «родового» человека, общечеловеческого природного начала, в его художественной антропологии.
В 1860-е гг. Писемский вслед за Тургеневым обращается к проблеме русского нигилизма, но его «серьезные» нигилисты Валериан Сабакеев и Елена Базелейн («Взбаламученное море», 1863) не открывают в этом типе каких-либо новых черт. Тургеневский Базаров, с его трагическим мировосприятием, восходящим, как убедительно доказал А. И. Батюто, к философии Паскаля и в меньшей степени – Шопенгауэра [Батюто, 1972. С. 62–83], – не был пре- взойден, в философско-психологической его цельности, ни Писемским, ни Лесковым, сотворившим символический образ Райнера («Некуда»). Оба литератора создали, по классификации А. Г. Цейтлина, «бытовую» разновидность «антинигилистического» романа 5 и соответственно предложили иной уровень осмысления «нигилистической» проблематики. Нигилисты «по убеждению» не занимают значительного сюжетного пространства в романе Писемского – они «вытеснены» из романного центра фигурой «обыкновенного человека» Бакланова и в определенной степени, в том числе в противовес ему, романтизированы.
Писемский, вопреки широко распространенному мнению о «безыдеальности» его художественного мышления 6, уже в 1850-е гг. обращается к характеру «положительного» человека, обладающего национально-русским менталитетом и прагматическим сознанием «честного труженика» (Савелий Молотов). Культурно и социально-психологически человек такого плана аккомодировался к условиям русской жизни после реформ 1861 г. Этот тип личности намечается в тургеневском Лаврецком, определяется в его же « постепеновце снизу » Соломине («Новь») и в гончаровском Тушине («Обрыв). Писемский также воспринимает человека этой социально-психологической группы в качестве пореформенного типа и воссоздает его в «Людях сороковых годов» (1869) в характерах «низовых» деятелей реформ Вихрове, Замине, Живине и др. К ним присоединяется и Варегин – либерал, мировой посредник из «Взбаламученного моря».
К характеру «положительного» человека примыкает характер «умного скептика», разработанный в романистике Писемского 1870-х гг. (Миклаков, «В водовороте»; Сверстов, «Масоны»). В романе Лескова «Некуда» «умный скептик» доктор Розанов остается сторонним наблюдателем кипящих вокруг него «нигилистических» страстей, весьма трезво оценивая и дистопию «Дома согласия», и возможности нигилистического отрицания вообще: « некуда метаться. Россия идет своей дорогой, и никому не свернуть ее ». Такой же вывод о «водовороте» не только русской жизни начала 1870-х гг., но и о хаотичности процесса жизни в целом делает Миклаков. Сверстов, масон-материалист, напротив, считает процесс жизни упорядоченным, потому что в человеке, как в природном существе, филогенез преобладает над онтогенезом и бессмысленно сопротивляться законам природы.
Персонажи, составляющие группу «ищущих» героев в романистике Писемского 1870-х гг. (князь Григоров, «В водовороте»; Бегушев, «Мещане»; капитан Зверев, «Масоны»), позволяют судить об актуализации этико-религиозного дискурса в общественном сознании того времени. Писемский в это десятилетие, так же, как и его великие современники Толстой и Достоевский, пытается исследовать модель личностной инволюции от социальной репрезентации к персоналистской самоидентификации (обретение полноты бытия в теоцентричном образе мира). Толстовский Левин вернулся к вере, когда постиг простоту и истину крестьянского миросозерцания («Анна Каренина»), Версилов Достоевского сорвался в бездну неверия («Подросток»), Вера («Обрыв» И. А. Гончарова) вернулась к Богу, Нежданов («Новь» И. С. Тургенева) от Него отпал. Все «ищущие» герои русской литературы 1870-х гг. так или иначе решали для себя вопрос о целесообразности бытия как проблему теодицеи. Центральные персонажи «поздних» романов Писемского не исключение. Однако утратившие веру князь Григоров и Бегушев не находят оправдания своему существованию в дисгармоничном мире, а капитан Зверев, признавшись в своей полной непригодности к духовному са-мостроению, оказался единственным, кто обрел истину - но не в философическом диалоге с миром, а в примирении с ним.
Типологически родственные героям классических русских реалистов персонажи Писемского свидетельствуют о его принадлежности - в аспекте характерологии -к классической традиции. Логика характера в них первична, авторское задание вторично, «бытовизм» контекста их не детерминирует, а «групповой» литературный стандарт, превращающий художественный текст в документально-статистический (« протоколизм » по Виноградову), в архитектонике их характеров отсутствует. Даже жоржзандов-ские героини писателя (а «жоржзандовские» типы и сюжеты были продуктивны в русской беллетристике 1840-1850-х гг.) занимают пограничное между классикой и беллетристикой место. Одни из них статичны и разработаны средствами сентиментально-мелодраматической поэтики (Анна Павловна Задор-Мановская, «Боярщина»), другие психологически многомерны и мотивированы сложностью жизненно-реальных отношений (Вера Ензаева, «Богатый жених»; Лидия Ваньковская, «Виновата ли она?»).
Второстепенные персонажи Писемского -функции «среды», мотивированные бытом, поведенчески предсказуемые, социально-типичные, нравственно-безличностные. Наряду с вещным контекстом и хроникально изображенной социальной историей («Взбаламученное море», «Люди сороковых годов», «Мещане») персонажи второго плана беллетризуют повествование Писемского, однако в центре его помещена нравственно свободная личность, ответственная за свое положение / полагание в мире. Доминанта личности перенастраивает повествование: характерологически - с фактографии «типов» на исследование личности; сюжетно -с истории нравов или общества на историю личности; стилистически - с фиксирующей изобразительности на аналитическую пове-ствовательность, телеологически - с морализаторства на иррационалистически-инде-терминистскую трактовку сложности мира. Тип творчества, предполагающий воссоздание эволюционирующей личности в статической среде и не только сложные взаимопе-реходы этих планов в едином эстетическом пространстве, но также их параллельное и относительно автономное развертывание в повествовании, на наш взгляд, определяется как классически-реалистический с беллетристической тенденцией. Основной систем- ный элемент такого типа творчества – концепция личности – принадлежит эстетике классического реализма.