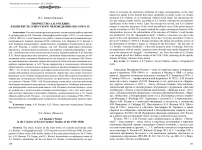Творчество А.И. Роскина в контексте советского чеховедения 1920-1930-х гг
Автор: Зайцев Виктор Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются крупные чеховедческие работы критика и литературоведа А.И. Роскина: «Биографический очерк» (1935 г.) и две повести (1939 и 1940 гг.). Сопоставление этих работ с аналогичными исследованиями рассматриваемого периода (книгами Ю.В. Соболева, А.Б. Дермана, П.С. Когана и Д.И. Киреева) демонстрирует двойственность специфики чеховедческого наследия А.И. Роскина. С одной стороны, для А.И. Роскина характерно стремление преодолеть деструктивные рудименты вульгарного социологизирования, с другой - освободиться от них полностью он не сумел. В ранних работах А.И. Роскина А.П. Чехов представал интеллигентом, лишенным общественных идеалов, но обличавшим эпоху и рядовых обывателей (в чем сказалось, по мнению А.И. Роскина, революционное значение творчества писателя). Впоследствии концепция подверглась корректировке, и А.П. Чехов превратился в сознательного обличителя общественных и политических пороков периода, предшествовавшего революции 1905 г. Это отчасти сохраняло вульгарно-социологические элементы трактовки, однако обоснование актуальности чеховского творчества стало менее политизированным: если в очерке чеховская актуальность была обусловлена тематикой его творчества, потенциально обличительного, но фактически «бытописательного», то в повести «Чехов» 1939 г. А.И. Роскин вводит этический и эстетический мотив бессмертия чеховского наследия как «тоски по будущему». Наиболее идеологически нейтральной стала последняя повесть А.И. Роскина «Антоша Чехонте», однако знакомство с читательскими отзывами демонстрирует, что и этот текст массовый читатель трактовал в категориях «борьбы», «революционности» и т.п. Таким образом, работы А.И. Роскина - это неотъемлемая часть чеховианы 1920-1930 гг., наследующая все специфические особенности литературоведения данного периода.
А.и. роскин, а.п. чехов, советское чеховедение, биографический очерк
Короткий адрес: https://sciup.org/149139048
IDR: 149139048 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_230
Текст научной статьи Творчество А.И. Роскина в контексте советского чеховедения 1920-1930-х гг
Александр Иосифович Роскин - один из наиболее ярких литературоведов и критиков 1920-1940-х гг. - родился в Москве в 1898 г. в семье юриста. Закончил московское реальное училище Н.Г. Бажанова (1916 г). С начала 1920-х гг. - профессиональный журналист. В 1932 г. А.И. Роскин выпустил книгу очерков об Н.И. Вавилове и его деятельности «Караваны, дороги, колосья», в 1935 г. - книгу «Кольцо Севана». Как писатель, театральный критик и литературовед сотрудничал с журналами «Детская литература», «Книга и пролетарская революция», «Красная новь», «Огонек», «Художественная литература», газетами «Вечерняя Москва», «Правда», «Известия», «Литературная газета» и т.д. Публиковал статьи о творчестве Мольера, Г. Флобера, И.С. Тургенева, о системе К.С. Станиславского. Писал А.И. Роскин и о советской литературе, в частности, о творчестве В.В. Вересаева, А. Гайдара, К.Г. Паустовского, К.А. Федина, М.А. Шолохова. В 1936 г. выпустил в «Детгизе» биографию М. Горького, а также сборник его избранных произведений с биографическим очерком и комментариями. В 1940 г. Вл.И. Немирович-Данченко привлекал А.И. Роски-на к работе над постановкой «Трех сестер» в качестве консультанта.
В июле 1941 г. А.И. Роскин ушел добровольцем на фронт: «“Штатские” - еще недавно - люди, поэты и писатели, вступившие в народное ополчение Красной Армии, овладевают боевой техникой, с честью сдают одно испытание за другим. <.. .> С любовью относятся к порученному делу санитары А. Роскин и И. Жаткин» [Сикар 1941, 4]. С 1 октября 1941 г. числился пропавшим без вести и «по некоторым данным» находился «в германском окружении» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 16. Ед. хр. 660. Л. 1). Вероятно, погиб в «котле» под Вязьмой.
Наиболее пристальное и эмоциональное внимание А.И. Роскина-ис-следователя было обращено к творчеству и биографии А.П. Чехова. Любопытное наблюдение над спецификой интереса А.И. Роскина к чеховскому творчеству принадлежит В.С. Гроссману, отмечавшему, что «привязанность» эта «не носила профессионального литературоведческого... характера»:
«Корни этой любви очень глубоки, они в самом духовном существе Роскина. <...> Чеховского героя критика склонна была в свое время винить в безволии и слабохарактерности...
Мне кажется, что в столкновении Советской России с тем злом, равного которому не видел мир, Роскин опроверг этот упрек к Чехову не пером своим, а кровью. <...> И когда седой, высокий человек Александр Роскин поехал на Западный фронт бойцом Народного ополчения, он шел от имени тех и во имя тех, кому он посвятил годы своей литературной работы, во имя той русской свободы, в которую верил Чехов сердцами и верой своих героев.
Пусть же навсегда сохранится связь Чехова с рядовым Московского народного ополчения Александром Роскиным, павшим, защищая Советскую Родину, осенью грозного сорок первого года» [Гроссман 1993, 269-270].
А.И. Роскин посвятил чеховской биографии и творчеству солидное количество публикаций. Ключевое место в наследии А.И. Роскина-чеховеда принадлежит трем крупным работам: «Биографическому очерку», напечатанному в сборнике изданных «Детской литературой» избранных произведений А.П. Чехова в 1935 г. (второе издание - 1938 г), биографической повести «Чехов» (1939 г.) и повести «Антоша Чехонте» (две части были напечатаны в «Красной нови» в 1938 и 1940 гг, отдельные издания выходили в 1939 и 1940 гг). Все три работы представляют своего рода единое целое, что подтверждается «текстологической» взаимосвязью: каждая следующая включала в себя значительные вкрапления из работ предыдущих.
«Очерк» А.И. Роскина, выступившего с первыми чеховедческими публикациями в юбилейном 1929 г, стал его первой крупной биографической работой об А.П. Чехове. Собственно, знаковым событием в чеховеде-нии и литературоведении, ориентированном на подрастающее поколение, явился весь однотомник избранных чеховских произведений, составной частью которого был «Биографический очерк». На исключительно высоком уровне компоновки материала остановился в своей рецензии на издание А.Б. Дерман. Отметив, что репутация А.П. Чехова как наиболее «понятного» отечественного классика очень часто приводит к упрощенной подаче его произведений детскому читателю, А.Б. Дерман отмечал, что однотомник А.И. Роскина - «совершенно иной тип книги»: «В основе его лежит строго продуманный план, главная задача которого столь же ясна, как и плодотворна: дать детскому читателю Чехова во всех проявлениях его богатой индивидуальности» [Дерман 1936, 25]. «Биографический очерк» в рецензии упомянут не был, однако позднее, в посвященной памя- ти А.И. Роскина статье, А.Б. Дерман писал, что «таких ярких, своеобразных, живых и остроумных» произведений «о жизни и творчестве Чехова, наша детская литература еще не знала» (ОР РГБ. Ф. 356. К. 12. Ед. хр. 2. Л. 21-22).
Добросовестность А.И. Роскина как составителя и комментатора ярко проявляется в сравнении с некоторыми образчиками аналогичной книжной продукции рассматриваемого периода. Курьезным примером служит выпущенный Гослитиздатом в 1936 г. сборник избранных повестей и рассказов А.П. Чехова, на вступительную статью к которому откликнулся в письме, присланном в редакцию газеты «Правда», один из внимательных читателей: «...“знаток” Чехова пишет, что А<нтон> П<авлович>“был похоронен в Крыму (Ялта)”, даже точно указывает место (Ялта). Кто же похоронен в Москве в бывш<ем> Новодевичьем монастыре?? Возможно ли держать в издательстве таких арапов» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 7. Ед. хр. 531. Л. 14). К слову, автор статьи, Ф.Х. Бутенко, помимо путаницы с местом захоронения писателя, отнес первую постановку «Иванова» на «столичной сцене» к 1888 г, в то время как пьесу поставили в Москве в 1887 г, а в Санкт-Петербурге в 1889 г, и на один год ошибся с избранием А.П. Чехова в почетные академики, датируя событие 1901 г, вместо 1900 г. [Бутенко 1936, 4] При этом биографии писателя посвящены только первые две страницы статьи, остальное место занимают характеристики чеховского творчества, исполненные в неотличимой от типовых вульгарно-социологических выкладок стилистике. Очерк А.И. Роскина на таком фоне представлялся отрадным явлением, особенно для специалистов.
В «Биографическом очерке» А.И. Роскин выстраивает чеховское жизнеописание с помощью тематических блоков, характерных и для старших товарищей по чеховедческому цеху (в первую очередь - для Ю.В. Соболева, А.Б. Дермана, отчасти Д.И. Киреева с П.С. Коганом): тяжелое детство (религиозное воспитание и необходимость работать в лавке отца), гимназия-«тюрьма», письмо Д.В. Григоровича, поездка на Сахалин и т.д. Жизнеописание дозированно перемежается с краткими характерологическими выкладками, например, касаясь вопроса о революционных настроениях 1870-х гг, А.И. Роскин замечает, что А.П. Чехов «к политике в те годы... относился безразлично, но в то же время горячо откликался на всякую несправедливость по отношению к отдельной личности» [Роскин 1935, 15]. О чеховской политической индифферентности, напомним, писали и Ю.В. Соболев, и А.Б. Дерман. По мнению первого, она была лишь отчасти преодолена после мировоззренческого кризиса 1890-х гг, приведшего А.П. Чехова в лагерь «радикальной буржуазии»: «Он вместе с нею за культуру, за грамотность, за школы, он вместе с нею против унтера При-шибеева, против азиатчины, против бесправия, против самодержавия. И вместе с нею - с этой радикальной буржуазией... он против революции» [Соболев 1934, 308]. По мнению А.Б. Дермана, политический индифферентизм характеризовал умонастроения писателя времен его молодости, после чего на смену ему пришли позиции «буржуазного демократизма»

[Дерман 1939а, 126]. А.И. Роскин в седьмой главе очерка («Обвинитель прошлого»), являющейся идеологическим центром работы, предлагает собственную общую оценку чеховского творчества и взглядов писателя. В этой главе А.И. Роскин высказывает некоторые положения, как сближающие его концепцию и с ранее вышедшей монографией Ю.В. Соболева, и, в большей мере, с критико-биографическим очерком А.Б. Дермана, так и отличающиеся от них. Одна из первых статей А.И. Роскина, посвященных А.И. Чехову, была опубликована в 1929 г. и называлась «Не “певец”, а обвинитель прошлого» [Роскин 1929, 2-3]. Основные тезисы именно этого текста исследователь и воспроизводит в «Биографическом очерке», почти не делая скидок на его «детиздатность». Писатель репрезентован здесь не нашедшим «своего общественного идеала» «изобразителем опустошенной и придавленной интеллигенции», изображая которую А.И. Чехов «менее всего призывал читателя к умилению и слезам над своими героями»; «российский обыватель нашел в Чехове непримиримого врага», и «революционное значение Чехова» сводится к «глубокому и искреннему упреку», сформулированному М. Горьким: «Скверно вы живете, господа!» [Роскин 1935, 52, 54]. При этом «пути революции», по мнению А.И. Роскина, оставались для А.П. Чехова «смутными», от пролетариата писатель был далек и в силы его не верил (что и сближает данную версию чеховского мировоззрения с трактовками А.Б. Дермана и Ю.В. Соболева): «Революционеры остались для Чехова лишними людьми, отщепенцами. Даже в последних своих произведениях, проникнутых предчувствием великих общественных перемен, Чехов выводит революционеров чудаками, вызывающими к себе сочувствие, но еще больше - жалостливую улыбку. Это - Петя Трофимов... и умирающий от чахотки типограф Саша из рассказа “Невеста”» [Роскин 1935, 54]. Любопытно, что Э.А. Полоцкая, во внутренней рецензии на посмертный сборник статей А.И. Роскина очень высоко оценившая общий уровень очерка на фоне работ, несвободных от вульгарной социологии, предъявила последней главе претензии, которые вполне можно было высказать в адрес большинства вульгарных социологов. Э.А. Полоцкая находила «неточным» предложенное А.И. Роскиным «определение общественного значения творчества Чехова»: «...чеховская интеллигенция в этой главе - синоним пошлости и безыдейности; от автора ускользнули симпатии писателя к широким слоям честной, трудящейся интеллигенции, с которой он был тесно связан. То, что говорит Роскин, правильно, но недостаточно», а слова об отсутствии у А.П. Чехова «общественного идеала» «теперь [в 1958 г] можно понимать только в том смысле, что Чехов не связывал свои общественные идеалы (они у него были!) с каким-либо конкретным социальным слоем» (ОР РГБ. Ф. 705. К. 3. Ед. хр. 3. Л. 26). Однако именно игнорирование А.П. Чеховым марксизма как передового учения и пролетариата как прогрессивного социального слоя в работах, например, Д.И. Киреева [Киреев 1929, 41] илиП.С. Когана [Коган 1929, 72] фактически приравнивалось к отсутствию полноценного общественного идеала - А.И. Роскин здесь идет пусть не столь ультимативны- ми, но не им проторенными путями. Иными словами, образ А.П. Чехова, данный в «Биографическом очерке», представал в ореоле вульгарного социологизирования рубежа 1920-1930-х гг. со всеми сопутствующими издержками.
Преодолением этих издержек стала повесть «Чехов», напечатанная в 1939 г. и фактически явившаяся расширенным вариантом биографического предисловия к однотомнику 1935 г. А.Б. Дерман начал рецензию на «Чехова» со сравнения предисловия и повести, причем далеко не в пользу последней: «О биографии Чехова, написанной А. Роскиным, можно сказать по справедливости, что она читается как увлекательная повесть, о повести же приходится сказать, что она читается как та же, но ухудшенная биография» [Дерман 1939b, 54]. Отдельное место А.Б. Дерман в рецензии уделил фактическим ошибкам в повести А.И. Роскина: «Дважды говорит автор о каком-то “мундире церковного старосты”, которого никогда не существовало. Он сообщает, что “Чехов подписался на московского «Сына отечества»”, который выходил в Петербурге. Он уверяет, что о причинах увольнения братьев Чеховых из уездного училища было сказано так: “За громкие успехи и тихое поведение”, между тем как это вещь совершенно невозможная в документе, и приведенная фраза есть не что иное, как вывороченный наизнанку и потому лишенный смысла ходячий каламбур: “За громкое поведение и тихие успехи”. Описывая мелкую литературную братию начала 80-х годов, автор изображает некоего адвоката Озерецкого “в засаленном сюртуке, украшенном университетским значком”, между тем как значки эти были введены примерно лет пятнадцать спустя» и т.д. [Дерман 1939b, 57] Аналогичный каталог фактических и бытовых неточностей повести А.И. Роскина составил в письме к А.Б. Дерману А.Г. Горнфельд (см. ОР РГБ. Ф. 356. К. 2. Ед. хр. 6. Письмо от 12.02.1940). Кстати, любопытным следствием удаления социокультурных контекстов друг от друга служит тот факт, что спустя годы за повестями А.И. Роскина закрепится слава исторически и фактически безупречных (см. ОР РГБ. Ф. 705. К. 3. Ед. хр. 3. Л. 6-7 и Л. 18 об.). Впрочем, ключевым для нас является вопрос не о «бытовой» адекватности произведения, а о его идейных интенциях.
Обращаясь к переформулировкам общественно-политической составляющей чеховского наследия в биографической повести в сравнении с очерком 1935 г, приведем три наиболее показательных примера.
Первый касается сахалинской поездки и книги «Остров Сахалин». По версии очерка, А.П. Чехов в «Острове Сахалине» «сам того не сознавая, вынес суровый приговор царскому режиму» [Роскин 1935, 35]. В биографической повести труд о Сахалине «превращался в суровое обвинение по адресу всего царского строя» [Роскин 1939, 152]. Мотивы «неосознанности» политических аспектов «Острова Сахалина» сменяются осмысленным обвинительным актом. Исчезают из повести и «герои-революционеры», вызывающие жалость и сочувствие, уступая место «новым чеховским героям», героям нового типа, ставшим проводниками чеховских мыслей «о широком и просторном будущем» [Роскин 1939, 222-223]. Примеча-
тельны и концовки обеих работ, посвященные обоснованию актуальности чеховского творчества. В очерке А.И. Роскин решает задачу так: «Россия, которую описывал Чехов, отошла в историю. Между чеховскими героями и людьми нашей страны легла пропасть. Но сам Чехов, его рассказы остались. Ибо в каждой их строке заключена правда о стране, отделенной от нас революцией. И эта правда призывает к борьбе за то, чтобы прошлое никогда более не вернулось» [Роскин 1935, 54]. Повесть завершается рассказом об умирающем писателе, который «глубоко проникся мыслью о необходимости создать другую, лучшую жизнь»: «И эта тоска о будущем, глубокая и мечтательная, вдохнула бессмертие в простые чеховские строки» [Роскин 1939, 231]. Таким образом, в очерке чеховская актуальность была обусловлена тематикой его творчества, пусть и потенциально обличительного, но в целом сводимого едва ли не к предельно объективному «бытописательству», а в повести А.И. Роскин вводит мотив бессмертия чеховского наследия, опираясь на осмысленные авторские интенции: не лишенную абстрактности «тоску о будущем», но уже не ограниченную более конкретными и чрезвычайно узкими «тематическими» рамками.
Вершинной точкой творческой биографии А.И. Роскина стала повесть «Антоша Чехонте». На первые главы журнального варианта «Антоши Чехонте», опубликованные в «Красной нови» в 1938 г, сдержанную рецензию напечатала «Детская литература». Ключевое достоинство «Антоши Чехонте» рецензент усмотрел в «большом чувстве меры», с которым А.И. Роскин использовал лежащий в основе повести фактический материал: он «без особого нажима, без излишнего злоупотребления черной краской, сумел сдержанно, в чеховской манере, но запоминающе и правдиво рассказать о детских годах Антоши» [Нагель 1939, 49]. Однако такого рода «скупость и сдержанность» приводят и к недостаткам: эскизно очерчена мать писателя, «слабо описание гимназических учителей», «далеко не подробно, рассказано о первых попытках Чехова начать работать “в литературе”». «Особенную досаду» рецензента вызвало «почти полное игнорирование важнейшего момента, наиболее существенного для понимания Чехова как писателя»: «Когда и при каких обстоятельствах зародилось в мальчике тяготение к перу и бумаге? Какие темы особенно привлекали его? Что именно было написано им в годы гимназического периода?» [Нагель 1939, 49-50]. Общетеоретические рассуждения о специфике биографических повестей и романов, основную сложность при работе над которыми рецензент усматривал в необходимости одновременного создания и биографического, и исторического полотен, и, следовательно, в необходимости изображения ситуаций, «которых, может быть, и не было, но которые могли бы быть», привели к выводу о еще одном недостатке повести, лишенной «той творческой интуиции, которая так помогает в биографическом жанре»: А.И. Роскин «не пожелал угадывать, а предпочел замалчивать там, где, по-видимому не мог опереться на документальные данные» [Нагель 1939, 51].
На публикацию 1938 г. откликнулся восторженным письмом к авто- ру и профессиональный читатель - литературовед Б.А. Этингин: «Ведь Вы продолжите то, что начали? Это обязательно нужно продолжить. Ведь всю культурную историю России можно дать вокруг Чехова. А сколько колоритных фигур можно будет вывести... Лиодор Пальмин (ведь это его изобразил Куприн в рассказе “Первенец”), Бегичев, Суворин, Гольцев, ху-дожественники, Горький... Да что соблазнять мне Вас, ведь и Вам ясно, какой это нужный и интересный материал, и как нужно сделать это, чтобы разбить сотни неумных легенд, создавшихся вокруг чеховского творчества» (ОР РГБ. Ф. 705. К. 5. Ед. хр. 12. Л. 2.).
Мы упоминали о точках соприкосновения «Биографического очерка» 1935 г. с чеховедческими штудиями вульгарных социологов, сходство, которое А.И. Роскин отчасти преодолел в дальнейшем. Избавленные от идейно тупиковых вариантов трактовок чеховского творчества, повести А.И. Роскина не стали концептуально уникальным явлением, наследуя многие основные достижения и формулы предшественников. Сходство «Антоши Чехонте» и работ Ю.В. Соболева и А.Б. Дермана заключается в общем идейном посыле, оформленном с учетом жанровой специфики повести. Там, где у А.Б. Дермана и Ю.В. Соболева - цитаты или открыто авторские рассуждения, А.И. Роскин пользуется двумя приемами: либо несобственно-прямой речью, а также примыкающим к ней изложением фактов в формате «А.И. Чехову показалось», «А.И. Чехов подумал» и т.п., либо описанием персонажей, сочетающем элементы взгляда со стороны и самохарактеристики, когда или персонаж говорит сам за себя, или авторские рассуждения оформляются в стилистически адекватном (по мнению А.И. Роскина) варианте для конкретного героя. Те. фактически авторское повествование стилизуется под рассказ героя о самом себе. Так обрисованы П.Е. Чехов, Н.П. Чехов, Н.А. Лейкин. Это помогало А.И. Роскину избегать инородных литературоведческих или публицистических вкраплений, но полностью сохранить их функции. Например, в гимназии «Антоша почувствовал себя словно находящимся в тюрьме», что позволяет не останавливаться на подробном описании специфических черт дореволюционной классической гимназии, и сразу перейти к характеристикам преподавателей; мещанский быт семьи выражен в рассказе о характере и привычках П.Е. Чехова и в небольшой детали повествования о жизни в Москве старшего брата Александра: последний, составляя подробные расчеты ежедневных расходов, вспоминает, что и отец любил различные ведомости и балансы, и задается вопросом: «Значит, есть в нем, в Александре, это самое таганрогско-чеховское?»; характеристика Н.А. Лейкина отчасти заменяет описание специфики «малой прессы» и авторов низового литературного эшелона и т.п. [Роскин 1940, 12, 17-21, 41, 99-104].
Несмотря на то что «Антоша Чехонте» был лишен прямых авторских интерпретаций общественно-политических симпатий А.П. Чехова, отношения писателя к интеллигенции и прочего, массовый читатель увидел в книге и общественно значимые мотивы, о чем свидетельствуют читательские письма в издательство «Советский писатель». Помимо отвлеченно
похвальных строк, например, от преподавателя иностранных языков из Кинешмы: «Книга Роскина “Антоша Чехонте” мне чрезвычайно понравилась своим легким литературным языком, увлекательностью своего содержанья и точностью автобиографических [sic] данных. Хочется горячо поблагодарить автора и пожелать ему написать такую же талантливую книгу о дальнейшей жизни Чехова» (ОР РГБ. Ф. 705. К. 4. Ед. хр. 23. Л. 1), среди читательских отзывов встречаются и такие: «Я считаю, что книга очень полезна для учеников 9-10-х классов средней школы и даже для молодых студентов, так как ярко отражает, как приходилось жить Чехову-студенту при царизме, какие тяжелые условия были у него, и как он с ними боролся и не погубил свой талант. У меня два сына - студенты, и я напишу им, чтобы они обязательно прочли эту книгу, так как кроме пользы от этого ничего не будет для них.
Выражаю автору А. Роскину свое восхищение и прошу продолжить и далее биографию, уже не Чехонте, а Антона Павловича Чехова, самого милого писателя и человека» (домохозяйка из Читы, ОР РГБ. Ф. 705. К. 4. Ед. хр. 23. Л. 2-2 об.).
Аналогичный пример - письмо от двадцатиоднолетней девушки -лесного техника (станция Коноша): «Глубоко содержательное “произведение” о произведениях и жизни талантливого человека русского народа, отдавшего весь свой талант на служение именно народа, воспитавшего его. <.. .> Прекрасно сложенный и подобранный материал дает яркое представление о Чехове, не только как о писателе-юмористе, а и как о человеке большой души, любящего свободу личности» (ОР РГБ. Ф. 705. К. 4. Ед. хр. 23. Л. 3).
Иными словами, массовый читатель к началу 1940-х гг. был достаточно подготовлен к тому, чтобы идеологически относительно нейтральные тексты интерпретировать в категориях «борьбы с условиями царизма», «народности» и т.п. А.П. Чехов в последней повести А.И. Роскина представал соотносимым как с официально одобряемыми форматами «нового человека», так и с реальным само- и мироощущением значительной части масс: образцом творческого строителя собственной жизни, верящего в свои силы и в будущее.
Итак, с одной стороны, чеховедческие работы А.И. Роскина написаны с эмоциональным, далеким от формального, отношением к чеховской биографии и творчеству, и в этом залог их далеко не исчерпанного этического и эстетического потенциала. С другой, данные работы наследуют многие конструктивные и деструктивные аспекты литературоведения и чеховедения 1930-х гг: элементы вульгарного социологизирования, критику общественно-политических взглядов А.П. Чехова с прямолинейно марксистских позиций -ив этом их источниковедческий и исторический потенциал как источников, характеризующих эпоху. И по той, и по другой причине творчество А.И. Роскина - безусловно актуальный объект для изучения и сегодня.