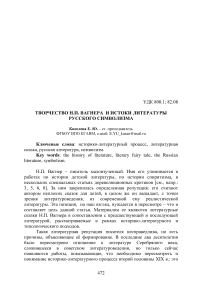Творчество Н.П. Вагнера и истоки литературы русского символизма
Автор: Киселева Е.Ю.
Рубрика: Социально-гуманитарные науки в подготовке кадров для АПК
Статья в выпуске: 4 т.212, 2012 года.
Бесплатный доступ
Место Н.П. Вагнера в историко-литературном процессе второй половины XIX в. Утверждается, что в эпоху реализма второй половины XIX в. Н. Вагнер оказался связующим звеном между литературой романтизма и русского символизма.
Историко-литературный процесс, литературная сказка, русская литература, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14287756
IDR: 14287756 | УДК: 808.1;
Текст научной статьи Творчество Н.П. Вагнера и истоки литературы русского символизма
Н.П. Вагнер – писатель малоизученный. Имя его упоминается в работах по истории детской литературы, по истории спиритизма, в нескольких специальных статьях дореволюционных критиков [см., напр.: 3, 5, 6, 8]. За ним закрепилась определенная репутация: его считают автором неплохих сказок для детей, в целом же он выпадает, с точки зрения литературоведения, из современной ему реалистической литературы. Эта позиция, на наш взгляд, нуждается в пересмотре – что и составляет цель данной статьи. Материалом ее являются литературные сказки Н.П. Вагнера в сопоставлении с предшествующей и последующей литературой, рассматриваемые в рамках историко-литературного и типологического подходов.
Такая литературная репутация писателя несправедлива, но есть причины, объясняющие её формирование. В последние два десятилетия было пересмотрено отношение к литературе Серебряного века, сложившееся в советском литературоведении, но только сейчас появляются работы, показывающие, что необходимо пересмотреть и понимание историко-литературного процесса второй половины XIX в.: это представление о том, что ведущим, единственным и достойным направлением этого периода был реализм, причем в социальном своем варианте. Писатели, которые «выпадали» из реализма и объявляли себя сторонниками «чистого искусства», например, И. Ясинский, рассматривались как «предтечи декадентства», «отказавшиеся» от демократических идеалов, а это определяло негативное отношение к их творчеству в целом.
В литературоведении последних лет растет интерес к писателям так называемого второго ряда, поскольку именно в их творчестве ярче всего проявляют себя закономерности литературного процесса. Литературовед и культуролог С.С. Аверинцев писал: «В XIX в. бытие каждого из двух направлений (имеется в виду романтизм и реализм. – Е.К.) тесно связано с присутствием другого. Перед реалистической литературой, непосредственно сопряженной с действительностью, иногда встает опасность растворения в ней, отказа от своей специфики, от обобщающей силы художественного слова. Приходится всякий раз восстанавливать универсальность слова, которое писатель использует в его частном, индивидуализированном облике, утверждать всеобщность содержания, преодолевая сугубую конкретность деталей. Как только реализм переходил грань "литературности" и принимал вид натурализма, бытового или физиологического очерка и т.п., вступали в силу романтические тенденции, порождая декоративность модерна, импрессионизм с его иллюзией эстетической самоценности случайного поэтического образа, символизм, прибегающий к усложненной технике обобщений и т.д.» [1].
Именно поэтому в эпоху торжества описательного реализма второй половины XIX в., зачастую спускающегося до натуралистичности, до примитивной социологичности в творчестве Д. Мамина-Сибиряка, Е. Кигна, К. Баранцевича, Д. Стахеева и пр., в творчестве Н. Вагнера проявился бунт против приземленности литературы.
Отличительной особенностью творчества Н.П. Вагнера является романтическое мироощущение, ярко воплотившееся в сказках. «Сказки Кота-Мурлыки» вышли первым изданием в 1872 г., после чего последовали десятки переизданий. «Основное свойство этого замечательного таланта есть фантазия, но фантазия особенная, мы сказали бы, мечтательная фантазия, творящая образы не реальной, а фантастической красоты», - писал один из критиков [7, с. 2]. Мы видим романтические начала его творчества в наличии двоемирия, в экспрессивности языка, в принципах создания характеров, в принципах построения сюжета.
Сказки, безусловно, опираются на романтическую традицию, о чем уже писали исследователи, в частности, на произведения русского романтика В. Жуковского и немецкого - В.-А. Гофмана [3]. Между тем иногда исследователи сами обнаруживают большую фантазию в поисках истоков мироощущения Вагнера. В частности, в учебнике по детской литературе под ред. Е.Е. Зубаревой отмечается, что «нельзя не увидеть общности некоторых позиций Н.П. Вагнера с его знаменитым современником – Н.Г. Чернышевским [5, с. 188]. Трудно найти более разных людей, чем сначала сторонник мистического христианства, а потом спирит Н. Вагнер и позитивист, реалист и сторонник антропологического материализма Н. Чернышевский! Такая попытка соотнести Вагнера с лидером радикальной интеллигенции как раз свидетельствует о том, что та линия литературы, к которой принадлежал данный писатель, представляется ряду литературоведов в чем-то ущербной, нуждающейся в некоем оправдании.
Для понимания подлинного места писателя в общем движении литературы необходимо проанализировать не только литературную традицию, на которую он опирался, но и то, с какими явлениями в последующем связано его творчество.
В литературе последней трети XIX в. в творчестве В. Гаршина, В. Короленко, А. Чехова реанимируются романтические тенденции. Повышается роль автора, т.е. субъективность творчества, лирическое начало. В личности многие авторы, философы и публицисты видят возможность спасения и движения вперед. Одной из причин всплеска романтического мироощущения является общее пессимистическое настроение эпохи, что было связано с её кризисным характером, с крахом народнических идей, с ощущением того, что необходимы социальные перемены. Этот пессимизм, разочарование в просветительских идеях породили позже развитие символизма на русской почве, для которого характерны двоемирие, мистика, внимание к запредельному. Всё это привело в начале ХХ в. к распространению литературной сказки как жанра: «Возрождение мифа способствовало возникновению особого интереса к сказке, «младшей сестре» мифа, ее сюжетам и образам. Обращение писателей Серебряного века к литературной сказке обусловлено притягательностью эстетики чуда и тайны, свойственной этому жанру, возможностью создать свой миф, проявить изощренность мысли и фантазии <….> часто с печатью романтического двоемирия и иронии» [2, с. 11].
Романтические тенденции, которые в творчестве других писателей проявлялись только как тенденции, в творчестве Н.П. Вагнера громко заявили о себе. Именно поэтому он оказался предтечей литературы Серебряного века. А сказки Вагнера, написанные в 1860-1870-е гг., близки к сказкам Серебряного века по своему пессимистическому и даже трагическому мироощущению.
В этом плане отчаянный пессимизм Н. Вагнера в романтическом крайне субъективном переживании сконцентрировал то, что переживали многие современники и предвосхищал Серебряный век: «Так, например, в сказках Вагнера отрицается возможность всякой деятельности, любая возможность улучшения общественной жизни. Если герой сказки и проявляет какие-либо прогрессивные стремления, то в конце сказки они непременно не удаются», - писала исследовательница [3, с. 110]. В одной из сказок мальчик Гриша, в детстве очарованный новогодним праздником у его превосходительства, всю жизнь прожил, ведомый своей «путеводной звездой» - «он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды». Он думал, что придет, наконец, то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных «Песках» и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы. <…> Пятьдесят лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью. Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. <…> Он чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище. Грустный, испуганный сидел он один в своем кабинете, накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову» [4].
Сказки З. Гиппиус, Ф. Сологуба, М. Кузмина и пр.также в подавляющем большинстве имеют грустный финал, связанный с ощущением несовместимости мечты и действительности, трагичности бытия в целом. Вопреки стереотипу, что сказка как жанр носит светлый и жизнеутверждающий характер, сказки Серебряного века безотрадны и жестоки. В сказке М. Кузмина «Послушный подпасок» герой пастух Николай сначала оказался в тюрьме по никому не ведомой причине, потом ему запретили любить дочь тюремщика, в довершение всего он сдался в плен, когда король отправил его воевать со страной, которая была родиной Николая, но там же его и повесили. Священнику - которому герой исповедовался – в ответ на слова, что тот ничем не может ему помочь, Николай сказал: «Я ни на что и не рассчитывал» [9, c. 419]. Трагичность обусловлена не только внешними по отношению к человеку обстоятельствами (глупая власть, нелепые повороты судьбы), но и внутренними свойствами человека, стремящегося к саморазрушению – этот мотив более всего развит в произведениях Ф. Сологуба. В его «Отравленном саде» прекрасный Юноша, как и многие другие молодые мужчины, сам стремится к отравленному поцелую Красавицы, отец которой через её ядовитые чары мстит человечеству. Любовь, эротика и смерть неотделимы друг от друга, но человек необъяснимо, иррационально и неудержимо стремится к ним: «Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою её любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, - и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу» [9, с. 477].
Поиски «новых форм» отразились и на самом жанре литературной сказки: в творчестве писателей-модернистов он «утратил жанровую строгость, смыкался с мифопоэтической фантазией, символикофилософской притчей, легендой, новеллой, часто с печатью романтического двоемирия и иронии» [2, с. 11]. Сказка стала прежде всего философской – в отличие от сказок, например, Д. Мамина-Сибиряка или П. Бажова, в которых ставились социально-психологические проблемы.
Но то же самое мы видим уже у Вагнера, где герои, особенно дети, поглощены решением важнейших недетских вопросов о смысле жизни. Героиня сказки «Гулли» в детстве видела сон о Божьем дереве, распространяющем вокруг себя «свет любви»: «и кажется Гулли, что нигде на земле, в целом мире нет ничего, ничего выше этого чувства, нет блаженнее любви ко всем и к этому дивному свету», «Гулли выросла, и всю свою короткую молодую жизнь она вспоминала то, что видела во сне, когда она была маленькой девочкой <…>. Вся жизнь ее, недолгая жизнь была полна тоски и ожидания. Что бы она ни делала и где бы ни была, вдруг ей почудится, что где-то вдалеке зазвучит родная песнь этих небесных птиц <…> Бледная, скучная, худая, она постоянно томилась и к пятнадцатой весне ее тихой жизни захирела и умерла. Муттерхен похоронила ее и осталась одна, совсем одна, без детей, без внучек и без своей дорогой, милой Гулли!» В сказке «Мечта на камнях» Ф. Сологуба является в мечтах ребенка чудный мир, столь не похожий на грубую жизнь петербургской мещанской среды, но оказывается, что и мечта -прекрасная Турандина, «такая же злая, как и все здешние люди»: «Кто же я, посланный в мир неведомой волей для неведомой цели? Если я – раб, то откуда же у меня сила судить и осуждать, и откуда мои надменные замыслы? Если же я - более чем раб, то отчего мир вокруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?» [9, с. 507-516]. Здесь сказка прямо переходит в философское эссе (тем более что эти мысли явно никак не могут принадлежать герою, ребенку) и обращена к проблемам, которые решал Серебряный век. Героя зовут Гришей, эта и другие текстовые параллели дают возможность предположить, что сказка Сологуба вступает в диалог со сказкой «Гриша» Н. Вагнера – а это ещё раз говорит о том, что Вагнер был известен писателям Серебряного века и значим для них.
Именно поэтому в эпоху реализма второй половины XIX в. Н. Вагнер оказался связующим звеном между литературой романтизма и русского символизма.
ЛИТЕРАТУРА: 1. Аверинцев С.С. Категории поэтики в смене литературных эпох// Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: Сб. статей. - М.: Наследие, 1994. - С. 3-38. 2. Берегулева-Дмитриева Е. «Чувство таинственности мира» // Сказка Серебряного века. – М. : Терра-terra, 1994. – С.7-28. 3. Бушканец Л.Е. Сказки Н.П.Вагнера (Кота-Мурлыки) в контексте русской литературы
1870-1880-х гг.//Поэтическое перешагивание границ / Сост. и науч. ред. Г.А.Фролов.- Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2002. - С. 106-115. 4. Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки. – М.: ПАЛЛАДА, 1992. - 205 с. 5. Детская литература: Уч. для ср. проф. образования / Е. Е. Зубарева, В. К. Сигов, В. А. Скрипкина; ред. Е. Е. Зубарева. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 187-192. 6. Мильдон В.И. Вагнер Н.П. // Русские писатели 1800-1917. Биогр. Словарь. Т.1. -М.: Сов. энциклопедия, 1989. - С.385-386. 7. О.Л. [Оболенский Л.Е.] Кот-Мурлыка (Н.П. Вагнер) как романист. -Русское богатство, ж. – СПб., 1888. - №11 – С.141-175. 8. Раздьяконов В.С. Творчество Н.П. Вагнера в религиозной культуре России последней трети XIX / Рос. Гос. гуманитарный ун-т Центр изучения религий. Спец. 24.00.01 -Теория и история культуры. – М., 2008. 9. Сказка Серебряного века. – М.: Терра-terra, 1994. – 640 с.