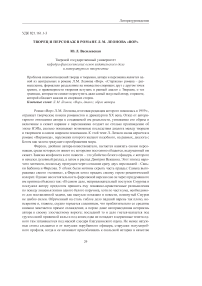Творец и персонаж в романе Л. М. Леонова "Вор"
Автор: Василевская Юлия Леонидовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проблема взаимоотношений творца и творения, автора и персонажа является одной из центральных в романе Л. М. Леонова «Вор». «Стержень» романа – размышление, формально разделенное на множество спорящих друг с другом точек зрения, о правомерности творения вступать в равный диалог с Творцом, о тех границах, которые не сможет переступить даже самый искусный автор, о правоте, которой обладает каждая из спорящих сторон.
Л. м. леонов, "вор", диалог, образ автора
Короткий адрес: https://sciup.org/146121906
IDR: 146121906 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Творец и персонаж в романе Л. М. Леонова "Вор"
Роман «Вор» Л. М. Леонова, итоговая редакция которого появилась в 1959 г., отражает творческие поиски романистов и драматургов XX века. Отказ от авторитарного отношения автора к создаваемой им реальности, умножение его образа и включение в сюжет наравне с персонажами создает не столько произведение об эпохе НЭПа, сколько показывает возможные последствия диалога между творцом и творением в самом широком понимании. К этой теме Л. Леонов снова вернется в романе «Пирамида», персонажи которого желают подобного, на равных, диалога с Богом как залога грядущего преображения мира.
Фирсов, двойник автора-повествователя, пытается навязать своим персонажам, среди которых он живет и с которыми постоянно общается, выдуманный им сюжет. Завязка конфликта в его повести – это убийство белого офицера, с которого и начался духовный разлад, а затем и распад Дмитрия Векшина. Этот эпизод нарочито затемнен, поскольку пропущен через сознание сразу двух персонажей – Саньки Бабкина и Фирсова. У обоих были мотивы скрыть часть правды: Санька выгораживал своего «хозяина», а Фирсов хотел придать своему герою романтический колорит. Однако несостоятельность фирсовской версии сам он через придуманного им критика объяснил так: «В самом деле, непривлекательный поступок Смурова и послужил автору предлогом пришить ему покаянно-нравственные размышления по поводу лишенья жизни одного белого поручика, хотя по части ума, необходимого для поставленной задачи, как выпукло показано в повести, помянутый Смуров не шибко силен. Обреченный на столь гиблое дело падший парень так плохо, неискренне и, главное, скудно терзается содеянным, что приблизительно со средины книжки замечается прямое охлаждение, а порою даже несправедливая неприязнь автора к своему злосчастному ворюге; последний то и дело гнется-шатается под грузом своей привязной килы и под конец едва не попадает в церковные тенета одного там затаившегося под маской слесаря благушинского паука. Не менее натужные стоны слышатся и от матушки порубанного офицера, старушки полузагроб-ного профиля, когда и ее начинают присобачивать к скользкой истории в качестве советской эринии, что ли. К слову, ей тоже так и не удается добиться от железного шнифера сколько-нибудь удовлетворительных, в смысле самоукоризны, результатов… Не менее жалостно наблюдать и самого сочинителя, как из главы в главу таскает он на себе живой, громоздкий эшафот – бывшего анархиста Машлыкина, необходимого ему в дальнейшем для Донькиной экзекуции. По замыслу автора, помянутый подопытный кролик и должен в повести – сперва непослушанием, а затем истреблением себя – подтвердить святость одного почтеннейшего табу – “не убий!”, что он и совершает в конце концов, но тоже как-то из рук вон некачественно» [2, c. 592].
Действительно, душевые терзания Митьки выглядят надуманно. Он, уже зарубивший множество белых, мстит молоденькому поручику за то, что он застрелил Сулима, Митькиного боевого коня. Месть за верного товарища вряд ли могла привести к подобному душевному слому, даже если это было убийство безоружного человека. Но Фирсов искусственно навязывает своему герою «комплекс Раскольникова», заставляя говорить почти его словами: «…кто же я на самом деле, тварь или не тварь… и если тварь, то в каком, собственно, из этих двух смыслов. Может, и нет вины на мне никакой, раз я тварь в высшем роде… и к чему тогда все мое бес-покойство?»[Там же, c. 350]. Он же включает в повесть разговор Векшина с Арта-шезом, похожий на разговор Раскольникова с Порфирием Петровичем. По замыслу Фирсова, Дмитрий Векшин должен прийти от преступления к просветлению. Пчхов («приблизительный» сюжетный эквивалент Сони Мармеладовой) в конце романа предлагает ему покаяться. На эти очевидные параллели с «Преступлением и наказанием» указывали многие исследователи, в частности, В. А. Ковалев [1].
Фирсов пытается проявить себя здесь именно как авторитарный Творец. Он навязывает своему персонажу искусственный комплекс вины, однако персонаж очень скоро выходит из заданных рамок. И автор-повествователь все чаще отмечает, что Векшин перестает нравиться сочинителю. Признает это и сам Фирсов: «Какое же там было увлеченье!.. просто требовалась достаточно прочная болванка для примерки некоторых моих в шитве пока находящихся раздумий о культуре, о человеческой начинке, мало ли о чем. Надо сказать, жиган мой не шибко оправдал себя в этом качестве…» [2, c. 452]. А фирсовский вариант развязки выглядит абсолютно надуманным: Митьку ждет духовное возрождение в сибирских лесах, в честном труде на лесоповале. Авторитарный взгляд на жизнь и творчество невозможен, поскольку порождает только нежизнеспособное, в чем Фирсов и признается сам себе в написанной на свою повесть и включенной в нее критической статье.
Сюжет романа «Вор» в целом можно было бы назвать «историей одной творческой неудачи». Именно постепенное осознание Фирсовым этой неудачи – того, что власть над персонажами выскальзывает из рук, – и становится основой «внешнего» сюжета романа. Его «раздвоенное чувство», испытываемое во время поминок по Тане Векшиной или визита Маньки Вьюги в эпилоге (с одной стороны, усталость и разочарование, с другой – «странное и тоскливое сожаленье» об освободившихся и уходящих от творца героях), является показателем его нового понимания процесса творчества. Огорчение Фирсова связано прежде всего с тем, что ни один из персонажей не подходил к «желательным образам современности… впрочем, Фирсов охотно поделился бы заработком с любым смельчаком, способным представить доказательства, что он-то, смельчак, и есть достойный поэмы персонаж эпохи» [Там же, c. 576]. Реальность не укладывается в жесткие типологические рам- ки, а законы, по которым развивается созданное творцом, гораздо сложнее, чем это представляют критики.
Неудача с развитием основного конфликта не единственная в повести у Фирсова. Еще один явный, с его точки зрения, промах связан с образом сестры Векшина, Таней, выступавшей в цирке под псевдонимом Гелла Вельтон. Сочинитель включает в свою повесть невозможный с позиции реалистического повествования ход: персонаж узнает о своей скорой смерти от самого автора. Этот откровенный разговор между творцом и творением происходит в подчеркнуто карнавальной обстановке. Фирсов и Таня случайно сталкиваются на улице, и сочинитель единственный раз за весь роман начинает откровенно играть шута. Выражается это в преувеличенно вычурных, «игровых» обращениях (например, «Слава аллаху, мисс, который высылает вас навстречу моим мыслям!»). Именно в такой форме Тане преподносится извещение о ее грядущей смерти.
Знание своей судьбы, даже мотивированное Фирсовым («Мне вы нужны только затем, чтобы вконец осиротить героя»), ставит Таню на особое место среди прочих персонажей. Это знание дает ей свободу от своего творца и возможность вступить с ним в диалог на равных («Ничего, мне теперь можно, я ведь ухожу») и даже с оттенком превосходства («Крылья болят мои!.. но давайте сменим наш легкомысленный тон разговора, мы не ровня, Фирсов. Видите ли, я вот хожу и умираю, а вы всего только пишете интересную повесть о том, как умираю я…» [Там же, c. 266]). Фирсов сразу понимает, что подобный разговор разрушит его произведение, поэтому делает неудачную попытку вернуться в привычные рамки реалистической литературы, где подобный диалог невозможен.
Положение Тани (второстепенного персонажа, по словам Фирсова) на самом деле уникально. Ее смерть нужна вовсе не для того, чтобы «осиротить» Дмитрия Векшина. Брат не интересуется ее душевной болью, так же как и болью других людей, и Танина смерть ничего не меняет в его душе. Таня Векшина, вроде бы оттесненная на второй план, играет одну из ведущих ролей и в романе автора-повествователя, и в повести Фирсова. Ее вполне можно назвать пробужденным сновидцем. Танина «болезнь» (потеря смелости при выполнении опасного циркового номера штрабат) появляется именно как реакция на осознание иллюзорности мира вокруг, как понимание того, что она всего лишь фантом, а мир вокруг – декорация. В интерпретации Фирсова это выглядит так: «Что-то выключилось из Таниной памяти, так что, прежде чем вхлестнуться в утраченный ритм номера, требовалось освоить, как это она, неумелая девчонка с железнодорожного разъезда, очутилась на зыбкой железной жердинке, под крышей непонятного здания, почти голая, в одном трико. Не потому ли всего страшнее сны, когда мы не можем восстановить порвавшиеся связи?» [Там же, c. 261]. Реальность для Тани превращается в кошмар, от которого она пытается спастись в самой обычной, серой жизни в безвестности (именно поэтому она торопится выйти замуж за Николая Заварихина, хотя не любит его и даже побаивается), то есть пытается «заснуть» еще глубже. Показательно, что глава, в которой рассказывается о ее гибели, начинается с описания Таниного пробуждения, а прощальная речь Пугля, произнесенная на кладбище, также содержит отсылку к метафорам, связанным со сном: «Сами крепки сон у шеловек, когда он умирайт…».
Однако это особое положение дает Тане способность видеть недоступное другим персонажам: «Где-то у вас же читала я, будто перед гибелью наступает ино- гда странная прозорливость. Начинаешь видеть самый краешек бытия… видно, и я так же!» [Там же, c. 267]. Оно же дает ей право на откровенную беседу со своим творцом о смысле жизни.
Образ Тани Векшиной, несомненно, наделен чертами Христа. Недаром ее сценический псевдоним Гелла Вельтон, как отмечает Е. Стеквашов [3], восходит к немецкому «die helle Welt» («светлый мир»). Само содержание беседы с Фирсовым (когда она спрашивает у своего творца, почему именно ей нужно умереть и сколько осталось жить) схоже с молитвой Иисуса в Гефсиманском саду. Это замечается и самим Фирсовым, который просит Таню не смотреть на него «этаким гефсиманским взглядом». Показательно, что он, способный по желанию вычеркивать целые сцены, удалять из повествования неинтересных ему персонажей, не может отсрочить или отменить Танину смерть.
С другой стороны, Таня получает и некоторые черты скандинавского бога Одина. Один – не только бог войны, но и бог-шаман, хранитель сакрального знания. Чтобы получить это знание, он приносит в жертву себя (вешается на Иггдраси-ле, пронзенный собственным копьем, и висит так девять дней, после чего получает знание рун) и свой собственный глаз (отдает великану Мимиру за право испить из источника мудрости). На частичную слепоту Тани автор намекает в самом начале романа: на одном ее глазу черная повязка. Но затем эта деталь более не появляется до эпизода, в котором описывается скандал, случившийся на праздновании дня рождения Зинаиды Балуевой. Именно тогда и выясняется, что уже давно из-за несчастного случая правый глаз Тани ослеп. По мнению автора-повествователя, именно частичная потеря зрения стала источником ее постепенно возрастающего страха перед штрабатом. Однако его версия не противоречит фирсовской. В обеих трактовках подчеркивается осознание персонажем «пограничности» своего положения в реальности, частичный выход за ее рамки, видение недоступного обычным людям. Но признание в этом физическом недостатке становится для Тани Векшиной роковым: Николай Заварихин чувствует охлаждение к невесте, которая в его глазах из звезды цирка Геллы Вельтон превратилась в испуганную, беспомощную девушку.
Неслучайно из всего огромного циркового репертуара Л. М. Леонов выбирает для Тани именно штрабат: «Шелковая веревка пружинным ударом в шейные мышцы останавливала запущенное ласточкой тело всего в двух метрах от арены, после чего исполнителю ничего не стоило вывернуться из наклонного, головою вниз, положения, описать полукруг и сорвать с шеи еще раз посрамленную удавку…» [2, c. 261]. По сути, этот номер – контролируемое повешение. И, выполняя его, Таня погибает.
По замыслу Фирсова, смерть сестры должна перевернуть душу Дмитрия Векшина, повести его к «просветлению». Но жертва Тани (Христа) оказывается напрасной. Сценой ее похорон и завершается произведение Фирсова. Именно тогда он понимает, что повесть не удалась, и уже не чувствует былой связи со своими персонажами.
Неудача Фирсова, таким образом, берет начало из двух источников. Во-первых, это непонимание законов творческого процесса, логику которого нельзя загонять в известные шаблоны (Векшин не стал вариантом Раскольникова). Во-вторых, фамильярный контакт с героями, который вскрывает иллюзорность происходящего в произведении, и позволяет персонажу бросить в лицо творцу обоснованный упрек в жестокости. В жестокости по отношению к своим персонажам признается сам сочинитель: «Художники всегда циники… никакой задушевной бесценности не пощадят!» [Там же, c. 285]. В подобный откровенный диалог с Фирсовым вступают всего два персонажа – Таня Векшина и Манька Вьюга. Первой подобную «привилегию» предоставляет ее особое знание об иллюзорности, некоторой театральности происходящего. Вторая использует это знание как элемент своей игры, как еще одну черту к образу демонической, роковой женщины. Но это же знание не позволяет им сыграть до конца свои роли, которые для них в повести Фирсова четко обозначены: для Тани – роль своеобразного катализатора в духовном просветлении брата, для Вьюги – роль женщины-мстительницы, разрушающей жизнь Векшина из-за давней совершенной по отношению к ней жестокости. Смерть Тани, как уже говорилось, не меняет Векшина, а тайна ненависти Вьюги остается для него загадкой до самого конца романа. И вовсе не козни «роковой женщины» становятся толчком к постепенному образованию в Векшине душевного надлома.
Мир Фирсов воспринимает именно как театр, в котором «всегда действует безупречный актер». Однако его «пьеса» (повесть о воре), по мнению сочинителя, провалилась, хотя персонажи безупречно отыграли свои роли. Здесь Л. М. Леонов выходит к истокам авангардного театра, в котором автор может принимать участие в действии наравне с персонажами, а персонажи осознают сценическую условность происходящего (Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», Т. Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и др.).
В последней беседе с Таней Фирсов раскрывает своему персонажу еще одну тайну творца. Их разговор затрагивает проблему, которую можно обозначить пи-латовским вопросом «что есть истина?»: «Так и возникают враждующие литературные школы, встречные течения, всесокрушающие циклоны от могущественного завихрения идей, идущих в атаку или отступающих, – страстные поединки, даже костры под еретиками, сгорающими ныне без дыма и запаха. Примечательно, что порой на эти дискуссии и потасовки у человечества уходит сил гораздо больше, чем на самое творчество, пожалуй. Истина всегда была людям дороже счастья… к сожаленью, за последние две тысячи лет они пока еще не выяснили в точности, в чем она заключается. Да я и сам не могу решить, что же это – героизм, стремление к единству, нетерпимость зоологического вида или нечто за пределами нынешнего знания?..» [Там же, c. 269]. Если мир – это книга Бога, которую каждый читает «на свой образец», то даже неудачная повесть Фирсова становится одним из ее обличий: «…истина потому и вечная, что она одна, да только имен и лиц у ней множество… и в каждом веке – свои!» [Там же, c. 350].
Идеальное произведение – это творение, предполагающее свободу прочтения и понимания, освобожденное от авторского диктата. И в этом смысле повесть Фирсова не является неудачной. А согласно одной его случайной оговорке, именно таковой она и была задумана: «Сколько я могу судить по житухе своего двойника, судьба этой повести будет поистине печальна, мисс!» [Там же, c. 266].
Список литературы Творец и персонаж в романе Л. М. Леонова "Вор"
- Ковалев В. А. Этюды о Леониде Леонове. М.: Современник, 1978. 326 с.
- Леонов Л. М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3: Вор: роман. М.: Худож. лит., 1982. 612 с.
- Стеквашов Е. «Вор» Л. Леонова и «Степной волк» Г. Гессе//Мировое значение творчества Леонида Леонова: сб. науч. тр. М.: Современник, 1981. С. 333-341.