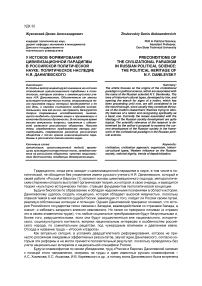У истоков формирования цивилизационной парадигмы в российской политической науке: политическое наследие Н. Я. Данилевского
Автор: Жуковский Денис Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 17, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье автор акцентирует внимание на истоках становления цивилизационной парадигмы в политологии, которые связаны с именем русского ученого Н.Я. Данилевского. Обозначенные им законы культурно-исторических типов, открывающие поиск признаков нации, который продолжается и по сей день, и сегодня считаются наиболее основательными, так как на них, как правило, базируются теории современных исследователей, пытающихся выделить признаки нации и принимающих в качестве базового духовность. В настоящее время весьма актуальны вопросы, связанные с идеологией развития российского общества. Новизна темы определяется предложением автора рассматривать современное развитие российского общества с точки зрения цивилизационной парадигмы в российской политической науке.
Цивилизация, цивилизационный подход, органицизм, культурно-исторические типы, западное влияние на российское общество, чувство национального достоинства, тенденции депатриотизации
Короткий адрес: https://sciup.org/14937460
IDR: 14937460 | УДК: 32
Текст научной статьи У истоков формирования цивилизационной парадигмы в российской политической науке: политическое наследие Н. Я. Данилевского
Традиционно, когда речь заходит о цивилизационной парадигме в науке, в том числе в политической, не обходится без упоминания имени русского ученого Н.Я. Данилевского, который в своей работе «Россия и Европа» [1] заложил основы цивилизационного подхода, методологическим стержнем которого выступает органическая теория, из которой, в свою очередь, и выводится теория «культурно-исторических типов», ставшая фундаментом геополитической концепции.
Будучи биологом по образованию и обладая недюжинными познаниями в области истории, Данилевскому удалось создать концепцию, которая обладает высокой живучестью, поскольку главной темой в ней является судьба России, зависящая от того, пойдет ли Россия своим путем, реализуя собственные интенции и потенции. Однако Данилевский прекрасно понимал, что история Российского государства тесно связана с Западом, взаимодействием со странами Запада, а значит, и избежать западного влияния невозможно. Но также он прекрасно понимал (и отразил это в своем знаменитом труде), что любые социальные преобразования будут безуспешными и, более того, разрушительными, если они будут осуществляться вне национального, исторического, социокультурного контекста, вопреки национальным интересам и особенностям российского народа, по сомнительным рецептам, под чужеродным влиянием и давлением извне. Отсюда и название труда - «Россия и Европа».
Как актуально сегодня, в условиях двадцатилетнего реформирования, которое не принесло россиянам ожидаемых эффективных результатов, звучат идеи Данилевского, согласно которым эти реформы и не могли принести положительный результат, поскольку проводились без учета национальных интересов и национальной специфики России.
Будучи славянофилом по своим убеждениям, труд «Россия и Европа» Данилевский написал с позиций этого направления, опираясь на труды и идеи известных русских славянофилов -А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, И.В. Киреевского и др., а потому книга Данилевского была встречена резкой критикой со стороны прозападно ориентированного большинства русской интеллигенции, в том числе ученых-историков. В частности, В.С. Соловьев очень критично отозвался о работе Данилевского, назвав ее «литературным курьезом» и не увидев в ней ни новизны, ни оригинальности.
Пропитанная духом славянства с надеждой на образование Всеславянской федерации, книга Данилевского не соответствовала политическому духу России того времени, когда умы русской интеллигенции, обращенные на Запад, именно с ним и с идеями прогресса по западному образцу связывали идеи прогрессивного развития Российского государства. Потому современниками идеи и труды Данилевского оценены по достоинству не были, и, опираясь на реалии современности, в том числе западной, переживающей катаклизмы и кризисные явления, свидетельствующие о «закате» этой цивилизации, мы можем констатировать, что напрасно. Возможно, многих ошибок, роковых по своим последствиям для России, можно было бы избежать, если бы идеи Данилевского были восприняты иначе.
Данилевского обвиняли в «узком патриотизме», а порой и в шовинизме за его славянскую позицию и строгое следование национальным интересам России, но, ввиду современных тенденций в российском обществе, связанных с депатриотизацией сознания россиян [2], и прежде всего молодых [3], так и хочется сказать, как не хватает нам сегодня этого «узкого патриотизма», здорового национализма, в рамках которого служение своему народу, защита национальных интересов рассматриваются как нормы, необходимые для существования и развития цивилизации.
В современной России (мы позволим себе немного отвлечься от методологического анализа цивилизационной парадигмы в свете остро стоящей проблемы патриотизма в России как жизненно важной для развития российской цивилизации и будущего России вообще) патриотические чувства динамично снижаются не только в молодежной среде, а потому не стоит в де-патриотизации в России винить только молодое поколение. Происходящие в последние десятилетия события на постсоветском пространстве страны у значительной части населения снизили чувство национального достоинства, которое сменилось развитием комплекса национальной неполноценности. И есть из-за чего: россияне четко осознают, насколько далека сегодня Россия от цивилизационных норм развития, принятых на Западе, а ведь именно на Запад ориентировано сегодня все российское общество, следовательно, критерии экономического и социального благополучия тоже западные.
Необходимо понимать, что тенденции депатриотизации в России зашли слишком далеко, чтобы в одночасье их устранить указом правительства или сменой политического или идеологического вектора, поскольку этот процесс патриотического или депатриотического воспитания связан с процессом социализации, с межпоколенческими отношениями, с сознанием и ценностями, которые неподвластны формальным указам.
Поскольку идея возрождения патриотизма, безусловно, связана с молодым поколением, эта проблема автоматически перетекает в русло социализационной проблематики, молодежной политики и идеологического строительства общества, поскольку формирование патриотизма происходит в контексте общенациональной идеи, отсутствие которой и обусловило формирование непатриотичного фона воспитания молодежи в современной России.
В России отсутствуют контуры патриотической идеи, патриотизма вообще, а потому и вопрос о его возрождении повисает в воздухе. Что есть патриотизм? Согласно авторитетному мнению В.Н. Кузнецова, патриотизм есть отношение устойчивой и осознанной любви к своей семье и образу жизни, нации, национальной и культурной идентичности, государству и Отечеству в их прошлом, настоящем и будущем состояниях, готовность жить во имя Родины и защищать ее цели, идеалы, ценности [4]. Можно ли быть уверенными, что без патриотизма возможно эффективное развитие государства и общества? Думается, что нет, а потому идеи Данилевского, пронизанные идеей патриотизма, обретают новую силу, новую жизнь в современных российских условиях.
Стремление русских космополитов «втереться в Европейскую семью» (по образному выражению самого Данилевского) обернулось для России тем, что и предвидел Данилевский, - оттеснением России на Восток и уходом ее из Восточной Европы. Превыше всего Данилевский ценил русскую культуру, ее особый дух, который позволит России в будущем достичь великих успехов в науке, искусстве, философии, а именно поэтому завещал хранить ее от внешних, западных влияний, потому что русская культура, по мнению Н.Я. Данилевского, в своих настоящих и будущих достижениях много выше европейской.
Ориентацию на идеализацию западного пути развития в российской среде осуждают и современные исследователи. Так, В.Г. Федотова полагает, что необходимость организации российского общества по европейским и американским стандартам, проистекающая от западничества и приверженности идеалам западного пути развития, является глубоко ошибочной позицией [5]. Объясняется это тем, что Россия - не Запад и стать Западом ей все равно не суждено, как бы мы к этому ни стремились. У России есть свой путь, свои социальные и исторические задачи, отличные от задач Запада, и решать их России следует, конечно же, с опорой на собственный социокультурный опыт, даже с учетом необходимости использования достижений Запада в тех или иных социальных сферах.
Итак, возвращаясь к методологии цивилизационного подхода Н.Я. Данилевского, необходимо сказать, что она основывается на методологии «органицизма», которая, как полагал автор труда «Россия и Европа», позволяет рассматривать природу и общество как единое целое с соответствующими законами развития и функционирования, которые помогут опровергнуть распространенную и господствовавшую на тот момент в исторической науке точку зрения, согласно которой модель европейского развития признавалась универсальной и принималась за всеобщую. Эта модель Данилевским признавалась искусственной, и ее необходимо было заменить альтернативной, естественной, согласно которой история предстает в виде существования отдельных цивилизаций, развивающихся имманентно, но, естественно, во взаимодействии друг с другом.
Конечно же, множественность и разнокачественность человеческих культур означали отказ от европоцентризма и противостояние ему в рамках приверженности к концепции культурно-исторических типов и уникальности каждой цивилизации с присущей ей культурой и культурным духом, а потому и вредоносно для каждой из культур проникновение чужеродных элементов и насильственное их внедрение в социокультурную ткань социума. Это заложено в теории органицизма, краткий экскурс в которую считаем нужным произвести.
Суть органической теории мы можем рассмотреть на основе учения Спенсера, который понимает общество как социальный организм, который по аналогии с биологическим имеет свои закономерности развития. Эти закономерности выявляются Спенсером на основе сравнения социального и биологического организмов, нахождения сходств и различий в их функционировании [6]. Спенсер понимал общество как квазиорганизм, в котором его подсистемы выполняют необходимые функции по сохранению общества как целого [7], что и послужило основой для развития такого направления в социологии, как функционализм.
Согласно полученным Спенсером результатам, основные черты сходства социальных организмов с биологическими связаны со следующим [8]:
-
- начинаясь соединением небольшого числа частей общества, нечувствительно увеличиваются в объеме до такой степени, что некоторые из них, наконец, достигают размера, в десять тысяч раз большего, нежели их первоначальный;
-
- имея изначально простое строение, по мере своего возрастания они принимают более сложное строение;
-
- хотя в первоначальном неразвитом состоянии частей общества почти не существует взаимной зависимости между ними, части эти постепенно приобретают взаимную зависимость, которая затем увеличивается до такой степени, что жизнь и деятельность каждой части обусловливаются жизнью и деятельностью прочих частей;
-
- жизнь и развитие общества независимы от жизни и развития какой-либо из составляющих его единиц и гораздо продолжительнее существования этих единиц, так как они рождаются, развиваются, действуют, воспроизводятся и умирают каждая сама по себе, между тем как политическое тело, состоящее из них, переживает одно поколение за другим, увеличиваясь в массе своей, совершенствуясь в своем строении и в деятельности.
Различия между обществами и индивидуальными организмами, согласно Спенсеру, связаны с тем, что [9]:
-
- общества не имеют специфических внешних форм, что, по мнению Спенсера, выступает незначительным фактором с учетом того, что в природе также формы часто носят неопределенный характер;
-
- живые элементы, из которых состоит общество, не образуют такой же сплошной массы, как живая ткань, из которой состоит индивидуальный организм, а более или менее рассеяны по известной части земной поверхности (данное различие опровергается Спенсером как важное, поскольку в ответ им приводятся факты рассеянности частей живых организмов, да и люди в обществе разделены физически друг с другом, хотя их и объединяет поверхность, по которой они рассеяны, а эта поверхность не лишена жизни, а только покрыта жизнью низшего разряда);
-
- живые элементы индивидуального организма по большей части безотлучно остаются на своем месте, а элементы социального организма одарены способностью передвигаться с места на место, однако и это различие лишь условно, по мнению Спенсера, поскольку если граждане как личности имеют способность перемещаться, то как части общества они неподвижны и др.
По мнению Спенсера, различия социального и биологического организмов менее значимы по сравнению со сходствами, поскольку «начала организации - одни и те же» [10].
Идеи о тесной связи человеческого общества и биологического организма развивает также такой видный представитель органицизма, как П. Лилиенфельд [11] (его относят как к русской научной школе, так и к немецкой, поскольку свои труды он издавал на немецком языке). Он также считал, что общество подобно живому организму состоит из клеток - человеческих индивидов. В отношении же отдельных процессов он полагал, что, подобно отдельным органам, экономическая, политическая и юридическая составляющие общественного развития сопоставимы с физиологической, морфологической и целостной ипостасями организма, и это, по его мнению, может служить обоснованием положения о неизменности базовых социальных институтов.
Лилиенфельд категорически против насильственных попыток трансформации социальных институтов, естественная природа которых не терпит насильственного вмешательства, которую он рассматривал как патологию [12]. И здесь стоит провести параллель с российской действительностью, ибо так актуальны сегодня мысли этого ученого о паталогичности чужеродного вмешательства в естественную ткань социальных институтов. Проникновение тех элементов культуры, ценностей и образцов жизни, которые являются чуждыми обществу, активно внедряемых на российскую почву на протяжении всего пореформенного периода развития России, стало источником «болезненного» состояния российского общества, разрушения его институциональной системы, ценностного мира и мировоззренческих оснований общественного организма.
Не свойственные, чужеродные для общества элементы, противоречащие направлениям и целям общественной жизни, не всегда могут встретить нужный отпор со стороны общества, а иногда это и нецелесообразно на конкретном историческом этапе развития, но бесследно для общества как живого организма не проходит. Это следует и из теории социокультурной травмы П. Штопмки, согласно которой в период трансформации общество переживает травму, раскалывается, дезинтегрируется, переживает болезненные моменты, которые выступают следствием социальной реакции на коренные и, что самое важное, внезапные изменения в обществе [13].
Теория П. Штомпки также построена на принципах органицизма, в рамках которой ее разработчик говорит о нарушениях в работе социального организма в период, когда происходит ломка традиционных норм и ценностей, структурирующих общество и организующих его жизнедеятельность.
Теория Лилиенфельда представляет также интерес тем, что в ней, как и в теории Н.Я. Данилевского, значимое внимание уделяется взаимосвязи природы и общества. Но наиболее концептуально эта взаимосвязь прослеживается в учении о ноосфере, которое связано, прежде всего, с именем нашего соотечественника В.И. Вернадского. Ученый полагал, что ноосфера как общепланетарная оболочка формируется в результате роста геохимической энергии, в то время как Тейяр де Шарден считал, что появление ноосферы есть результат духовной эволюции Вселенной и ее преображения в варианте соединения человека с Творцом Вселенной [14].
Итак, если вернуться к концепции Н.Я. Данилевского, то следует отметить, что открытые им законы культурно-исторических типов, открывающие поиск признаков нации, который продолжается и по сей день, и сегодня считаются наиболее основательными, так как на них, как правило, базируются теории современных исследователей, пытающихся выделить признаки нации и принимающих в качестве базового духовность. Таких законов Данилевский открыл пять [15]: первый закон культурно-исторических типов - общность языка как основной признак нации; второй закон - политическая независимость, который отражает территориальный признак нации как ее политическую целостность и общность экономической жизни; третий закон - «непередавае-мость цивилизации», которому соответствуют уникальные и непередаваемые другим народам и культурно-историческим типам понятия «дух», «природа» народов; четвертый закон этнографического содержания - «полноты, разнообразия и богатства», а пятый закон - «краткости периодов цивилизации», свидетельствующий о том, что накопление исторических сил народа до полного развития после определенного периода прекращается и цивилизация длительный период развивается по нисходящей, используя накопленный цивилизационный потенциал.
Эта идея близка пассионарной концепции Л. Гумилева, который рассматривал этнос как биологическое сообщество существа вида Homo Sapiens, а началом этногенеза считал так называемый «пассионарный толчок» (некие космические излучения) [16]. Дальнейшее развитие этноса определяется территорией расселения и психобиологическими характеристиками пассионарности, уровень которой у различных этносов в определенный исторический период различный, что и определяет динамику этногенеза.
Данилевский на вопрос «Принадлежит ли Россия к Европе?» однозначно отвечает, что нет, так как Европа в культурно-историческом смысле есть поприще германо-романской цивилизации, а Россия «не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворительные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, -не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа», то есть она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу [17].
Итак, ключевой вывод работы Н.Я. Данилевского заключается в том, что «общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем» [18].
Относительно типологии культурно-исторических типов Данилевский, полагая, что они соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам или племенам человеческого рода, выделил семь таких племен, принадлежащих к арийской расе, и среди них седьмое – славянское племя, две трети которого составляет самостоятельное политически независимое целое – Великое русское царство. Славянство, приходит к выводу Данилевский, – это термин одного порядка с Эллинизмом, Латинством, Европеизмом, такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе. И если Славянство не сможет выработать самостоятельной и самобытной цивилизации, то есть стать на ступень развитого культурно-исторического типа как живого и деятельного органа человечества, то странам, которые относятся к нему, ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей [19].
Не хотелось бы стать средством для достижения чьих-то целей, но, судя по событиям последних десятилетий, именно по такому сценарию и разворачиваются события. Перспектива славянской цивилизации растворяется, как дым, а Россия стремительно утрачивает свою цивилизационную самобытность и культурную уникальность, чему способствуют глобализация мирового пространства и происходящая в ее рамках культурная унификация.
Ссылки:
-
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к ГерманоРоманскому. 6-е изд. СПб., 1995.
-
2. См.: Афанасьев И.А., Тихонова С.В. Контуры российской патриотической идеологии: к проблеме конструирования // Власть. 2007. № 1.
-
3. См.: Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи // Социологические исследования. 2007. № 4.
-
4. Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004. С. 183.
-
5. Федотова В.Г. Политический класс, население и территория // Свободная мысль – XXI. 2004. № 2. С. 34–35.
-
6. См.: Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1999. С. 271–274.
-
7. Цит. по: Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. С. 17.
-
8. См.: Спенсер Г. Указ. соч. С. 272.
-
9. См.: Там же. С. 274–275.
-
10. Там же. С. 277.
-
11. См.: Волков Ю.К. Идея «болезней» и «смерти» общества и государства в истории философско-социологической мысли // Философия и общество. 2005. № 1. С. 55.
-
12. Грицанов А.А. Лилиенфельд (Тоаль) Павел Федорович [Электронный ресурс]. URL:
-
13. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12.
-
14. Режабек Б.Г. Учение В.И. Вернадского о Ноосфере и поиск пути выхода из глобальных кризисов // Век глобализации. 2008. № 1. С. 161.
-
15. Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 19–20.
-
16. См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001.
-
17. Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 48–49.
-
18. Там же. С. 104.
-
19. Там же. С. 105.
(дата обращения: 11.09.2015).
Список литературы У истоков формирования цивилизационной парадигмы в российской политической науке: политическое наследие Н. Я. Данилевского
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. СПб., 1995.
- Афанасьев И.А., Тихонова С.В. Контуры российской патриотической идеологии: к проблеме конструирования//Власть. 2007. № 1.
- Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи//Социологические исследования. 2007. № 4.
- Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004. С. 183.
- Федотова В.Г. Политический класс, население и территория//Свободная мысль -XXI. 2004. № 2. С. 34-35.
- Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1999. С. 271-274.
- Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. С. 17.
- Волков Ю.К. Идея «болезней» и «смерти» общества и государства в истории философско-социологической мысли//Философия и общество. 2005. № 1. С. 55.
- Грицанов А.А. Лилиенфельд (Тоаль) Павел Федорович . URL: http://gufo.me/content_soc/lilienfeld-toal-pavel-fedeorovich-11225.html (дата обращения: 11.09.2015).
- Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая)//Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3-12.
- Режабек Б.Г. Учение В.И. Вернадского о Ноосфере и поиск пути выхода из глобальных кризисов//Век глобализации. 2008. № 1. С. 161.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001.