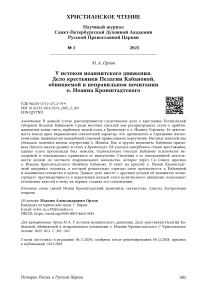У истоков иоаннитского движения. Дело крестьянки Пелагии Кабановой, обвиняемой в неправильном почитании о. Иоанна Кронштадтского
Автор: М.А. Орлов
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается следственное дело о крестьянке Костромской губернии Пелагии Кабановой. Среди местных жителей она распространяла слухи о приближающемся конце света, вербовала людей ехать в Кронштадт к о. Иоанну Сергиеву. Ее деятельность имела ярко выраженный сектантский характер, что проявлялось в отрицании иконопочитания, являющегося важнейшей стороной православного вероучения. Местных жителей она убеждала заменять иконы портретами о. Иоанна. Как и другие иоанниты, Кабанова призывала бросать малую родину и ехать в Кронштадт. Ей удалось завербовать семью крестьянина, однако успех пропаганды был невелик. Односельчане считали Кабанову психически нездоровой и отказывались принимать ее вероучение. Сведения о ее агитационной деятельности дошли до местного епархиального начальства, которое через Св. Синод просило о. Иоанна Кронштадтского обличить Кабанову. В ответ на просьбу о. Иоанн Кронштадтский направил отповедь, в которой решительно отрицал свою причастность к Кабановой и иоаннитамсектантам в целом. Данное дело вместе с другими делами об иоаннитах иллюстрирует противоречивость в вероучении вождей этого религиозного движения, показывает отношение властей к нему на первых стадиях его становления.
Святой Иоанн Кронштадтский, иоанниты, сектантство, хлысты, Костромская епархия
Короткий адрес: https://sciup.org/140309618
IDR: 140309618 | УДК: 94(470+571)+271.2-79-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_301
Текст научной статьи У истоков иоаннитского движения. Дело крестьянки Пелагии Кабановой, обвиняемой в неправильном почитании о. Иоанна Кронштадтского
В 1894г. костромское епархиальное руководство начало следствие о распространении религиозного учения крестьянкой Пелагией Кабановой «о поклонении о. Иоанну Сергиеву». Первая и, пожалуй, единственная попытка описать это дело была сделана Н. Киценко в работе «Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадтский и русский народ». Исследователь вкратце изложил начало следственного дела о Кабановой, однако многие аспекты оказались вне поля исследования [Киценко, 2006, 252-253]. В других значимых работах, посвященных св. Иоанну Кронштадтскому и иоаннитам, дело о Пелагии Кабановой не рассмотрено вовсе [Зарембо, 2010; Зимина: Иоанниты, 2010; Зимина: К вопросу , 2010]. Историографическая лакуна требует обращения к данному вопросу. Его изучение дает возможность углубить знания о движении иоаннитов в первое время его существования. В данной статье автор поставил цель изучить следственное дело Пелагии Кабановой в контексте развития иоаннитского движения, выявить общие и отличительные черты ее вероучения относительно воззрений других иоаннитов.
Некоторые дореволюционные исследователи относили иоаннитов к секте хлыстов. С. Маргаритов, следуя определению 4-го Всероссийского миссионерского съезда, отмечал: «В основе учения иоаннитов лежит хлыстовская идея о перевоплощении Божества в людях» [Маргаритов, 1910, 79]. Протоиерей Тимофей Буткевич также причислял иоаннитов к секте хлыстов [Буткевич, 2018, 25]. Но не все исследователи того времени считали иоаннитов хлыстами. Известный миссионер Д. И. Боголюбов полагал, что нет не только оснований считать иоаннитов хлыстами, но и относить их к секте как таковой. Он ссылался на определение секты, данное Мелиоранским, который определял ее как «общину, резко расходящуюся с Церковью» [Боголюбов, 1909, 7]. Д. И. Боголюбов указывал на то, что иоанниты считали себя церковными людьми, никого не призывали отпадать от Церкви, наоборот, призывали «держаться за нее» [Боголюбов, 1909, 5].
Появление иоаннитов связано с именем о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского). Сама личность этого священника, характер его пастырской деятельности были новым явлением в русской церковной истории. За долгие века в Русской Церкви сформировался идеал святого как инока-подвижника или благоверного князя-воина. Случай с о. Иоанном уникальный, беспрецедентный в истории России. Никогда еще приходской священник не проявлял такой масштабной пастырской и общественной деятельности, как св. прав. Иоанн Кронштадтский.
-
Н. П. Зимина связывает организационное оформление иоаннитства с созданием приютов близ Андреевского собора г. Кронштадта и датирует это 1885 г. (см.: [Зимина: К вопросу, 2010, 28]). Согласно мнению исследователя, иоаннитами стали называть людей, которые совершали паломнические поездки в г. Кронштадт» [Зимина: Иоанниты, 2010, 127]. Однако круг почитателей о. Иоанна, которых уместно отнести к иоаннитам, формировался намного раньше. Незаурядное служение св. Иоанна Кронштадтского, его стремление окормить всех кронштадтских страдальцев и бродяг рано привлекли к нему внимание. Батюшка исповедовал часами, встречал исповедников с распростертыми руками, вникал в суть проблемы каждого, кто приходил к нему [Одинцов, 2014, 105]. Как отмечал М. Одинцов, «вокруг [св. прав.] Иоанна формируется круг людей, которые регулярно исповедовались и причащались, были рядом с ним во всех его делах и всемерно его поддерживали» [Одинцов, 2014, 112]. «К ему со всех концов России едут большие тысячи благочестивых и богобоязненных русских людей, спеша у кронштадтского светильника причаститься св. Христовых Таин и получить его великого и сильного благословения», — отмечалось в одном из писем, посланных родственникам из иоаннитских детских приютов (ЦГИА. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344. Л. 26 об.). Таким образом, как верно отмечает Н. Киценко, изначально иоанниты — это «малообразованные миряне, привлеченные страстной верой о. Иоанна и его призывами к России излечиться духовно, возродить истинное православие» [Киценко, 2006, 246].
Первые сведения сектантского направления, касающиеся иоаннитов, связаны с делом крестьянина Владимира Кодратова (Кондратова) из деревни Луги Гдовского уезда. В 1892 г. было обнаружено, что Кодратов учил, что о. Иоанн Кронштадтский «Христос и Спаситель мира». В результате проведенного расследования оказалось, что большинство обитателей странноприимного дома, принадлежащего В. Ф. Пустошкину, были солидарны с Кодратовым (см.: [Зимина: К вопросу, 2010, 29]). В 1895 г. в том же Гдовском уезде священник Вейской Воскресенской церкви Алексей Солнцев писал св. прав. Иоанну, что в его приходе действует группа людей, которые почитают Кронштадтского батюшку за «Иисуса Христа или за Бога Саваофа» (ЦГИА. Ф. 569. Оп. 20. Д. 344. Л. 1 об.). Это были первые случаи неканонического почитания прав. Иоанна Сергиева, о которых узнали власти. Наряду с ними в 1894 г. было рассмотрено дело Пелагии Кабановой. В связи с этим вряд ли можно согласиться с мнением, что первое известие об иоаннитах относится к 1896 г., когда по Петербургу, Кронштадту и Югу России странствовал «какой-то человек Максим» и распространял веру о скором Страшном суде, о том, что в мир уже явился антихрист в лице Льва Толстого, а о. Иоанн Кронштадтский есть Господь Иисус Христос (см. об этом: [Маргаритов, 1910, 78]).
В декабре 1894 г. епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев) направил в Св. Синод донесение о появлении в его епархии «вероучения о поклонении о. Иоанну Сергиеву». Дело предварительно было рассмотрено прокурором Костромского окружного суда по Чухломско-Солигачско-Кологривскому участку, а затем передано, как имеющее религиозный характер, в епархиальное управление (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 1). Заметим, что епархиальное руководство не характеризовало это вероучение как еретическое или сектантское.
«Вероучение о поклонении о. Иоанну Сергиеву» распространяла Пелагия Кабанова. Из дела известно, что ей было 45 лет, последние годы она неоднократно посещала Кронштадт, где жила, как она на следствии показала, в доме «самого Спасителя», называя этим именем о. Иоанна Сергиева. Также известно, что из Кронштадта ее выдворяли три раза, «из-за беспорядков при служении о. Иоанна» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 1 об.). Что это были за беспорядки, сказать непросто. Характерно, что иоанниты нередко показывали себя нарушителями общественного и церковного порядка. В 1901 г. мировой суд Сретенского участка Москвы рассматривал дело о мошеннической деятельности иоанниток. В зале суда женщины-иоаннитки устроили беспорядки, что потребовало вмешательства полиции (см.: [Зимина: Иоанниты, 2010, 128]). 20 августа 1910 г. в Иоанновском монастыре крестьянин Никандр Фиронов перед возглашением вечной памяти св. прав. Иоанну стал кричать: «о. Иоанн воистину Христос!» Ему стали вторить женщины-иоаннитки. Это произвело смущение молящихся, поэтому священник Федоров попросил за такое кощунство препроводить иоаннитов в ближайший полицейский участок (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 224. Л. 2–4).
После высылки из Кронштадта Пелагия Кабанова поселилась в доме крестьянина Коляскина. Она стала убеждать его, что в лице о. Иоанна «сошел на землю сам Иисус Христос». В результате все иконы в доме Коляскина были заменены портретами о. Иоанна (2 больших и 6 «малых»), а перед портретами поставлены лампады. При этом иконы не убирались с божниц, а закрывались портретами. Кабанова убеждала местных жителей бросать хозяйство и идти в Кронштадт, где, как она говорила, «поселился Спаситель». Своим слушателям и слушательницам Кабанова раздавала портреты о. Иоанна, при непременном условии, что они будут поставлены на месте икон (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 1–2).
Из дела видно, что Кабанова не желала почитать канонические иконы, а вместо них почитала портреты о. Иоанна. Однако не все иоанниты отказывались от икон. Иллюстрацией к этому может служить следующее дело. В 1895 г. свящ. Алексий Солнцев писал св. прав. Иоанну Кронштадтскому, что его прихожане имели в домах изображения о. Иоанна, находившиеся рядом с иконами (ЦГИА. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 38. Л. 1). Правда, свящ. А. Солнцев отмечал, что сам не видел собраний прихожан, на которых выставлялись портреты о. Иоанна. Конечно, здесь могла быть и неточность передачи, и свое видение дела, и переработка материала. Прямыми данными мы не обладаем, но весь контекст дела указывает, что иоанниты прихода, где служил о. Алексий, почитали духовенство, не отказывались от исповеди и причащения у «рядовых» батюшек, а значит, не были столь радикальны, чтобы доходить до иконоборчества.
Считать ли культ Кабановой иконоборчеством? На данный вопрос ответим отрицательно. Это становится ясно, если присмотреться ближе к «обряду» Кабановой. Иконы были заставлены, но не убраны вовсе. А ведь иконоборчество предполагает полное отрицание образа как «идола». Вот на что еще стоит обратить внимание: заставляя иконы, Кабанова испытывала необходимость почитать что-то вместо них. Она в принципе не отказывается от почитания изображения, значит, видит в нем сакральный смысл. Правдоподобность этих рассуждений подтверждается самим фактом обожествления иоаннитами о. Иоанна Кронштадтского. Значит, Кабанова готова была молиться на изображения Кронштадтского пастыря, как на иконы. Иначе зачем было ставить портреты на божницу, сохраняя «старые» иконы? Логика здесь была вполне простой: если о. Иоанн Кронштадтский есть «воплотившийся Христос», пришедший в мир грешных спасти, то нужно поклоняться новоявленному «образу», а не тем, которые были писаны до пришествия «Спасителя».
Проповедь «исхода» в Кронштадт, высказанная Кабановой, была характерна для движения иоаннитов. Это, можно сказать, альфа и омега их вероучения — упор на то, что в Кронштадте находится великий подвижник Церкви, у которого можно получить духовное спасение ввиду приближающейся кончины мира. В 1901г. иоан-нитки в деревне Сустье Новгородской губернии призывали жителей ехать в Кронштадт, т. к. спасение только там. Они заявляли о скором приближении конца мира, говорили, что спасутся только те, кто будут близ о. Иоанна (см.: [Киценко, 2006, 256]). В Вятке иоанниты толковали о «гонениях», о массовом пролитии крови. По заверению иоаннитов, только один Кронштадт будет спасен от погибели (см.: [Деятельность иоаннитов, 1907, 4]).
Следствие по делу Пелагии Кабановой вели церковные и гражданские власти. Когда гражданские чиновники стали расспрашивать Кабанову о причинах ее действий, она «с горячностью встала на колена и начала молиться перед портретами о. Иоанна, не дозволяя убирать их с божницы». Присутствовавший при этом действии крестьянин Коляскин заявил следователям, что «по первому зимнему» пути готов ехать в Кронштадт и уже начал распродажу своего хозяйства. Кабанова добавила, что также собирается ехать в Кронштадт. Тогда следователи предупредили, что ее в очередной раз могут выслать из Кронштадта, но она заявила, что «за Спасителя (о. Иоанна) готова терпеть все» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 2). Это еще раз показывает, что для Кабановой портреты о. Иоанна Кронштадтского не являлись простыми изображениями наподобие протестантских картин в кирхах. Напротив, изображения о. Иоанна она воспринимает как иконы, имеющие сакральное значение.
После допросов встал вопрос о том, что делать с распространителями лжеучения. Сначала Кабанову отвели к медикам, чтобы определить ее психическое здоровье. По освидетельствовании в земской больнице Кабанова признана «совершенно здоровой и религиозной манией не страдающей». В связи с тем, что Кабанова была признана психически здоровой, а значит, дееспособной, Костромская духовная консистория определила: 1) привлечь Кабанову к уголовной ответственности по ст. 106 Уложения о наказаниях; 2) поручить ее и семейство Коляскиных особому наблюдению со стороны духовенства, которое должно было «вразумить заблуждающихся — оставить лжеучение и возвратиться в лоно православной Церкви» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 2). Отсюда видно, что костромское духовенство видело в деятельности Кабановой не просто заблуждение, но отпадение от Церкви, а кроме того, приписывала ее действиям с точки зрения государственного закона преступный характер. Это означало, что она подпадала под юрисдикцию государственных властей. В соответствии с этим ее дело было передано на рассмотрение уголовных следователей.
В марте 1895 г. еп. Виссарион донес в Св. Синод, что следователи в действиях Кабановой не нашли состава уголовного преступления. На основании этого уголовное преследование было прекращено. Тем не менее по приказу епархиального руководства портреты о. Иоанна из божниц в домах были убраны, а висевшая перед ними лампада уничтожена (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 7). Здесь неизбежно возникает вопрос: почему гражданская власть не привлекла Кабанову к ответственности? Ведь она распространяла культ, явно расходящийся с ортодоксальным православным учением. Духовенство прекрасно понимало, что учение Кабановой грозит духовной смутой среди местного населения.
Привлечь Кабанову к уголовной ответственности можно было при наличии соответствующей нормы в уголовном законодательстве или решения Св. Синода и Министерства внутренних дел о вредности ее вероучения. С точки зрения существующего законодательства действия Кабановой трудно было квалифицировать как уголовное преступление. Это не было кощунством, т.к. под ним понимались «язвительные насмешки», в которых проявлялось «явное неуважение к правилам или обрядам Церкви православной, или вообще христианства» [Законы о вере и веротерпимости, 1899, 86]. Также действия Кабановой не были богохульством, под которым понималось «возложение хулы на славимого в Единосущной Троице Бога». Для данного состава преступления важно было то, что «возложение хулы» совершалось с намерением «поколебать в ком-либо веру», хотя и совершалось не только публично [Законы о вере и веротерпимости, 1899, 84].
На тот момент не было еще юридически определено, что своеобразное религиозное движение, в рамках которого о. Иоанну Кронштадтскому приписывались Божеские почести, является не соответствующим православному вероучению. Только такое признание давало гражданской власти право преследовать известную группу верующих. Заметим, что в том же году, когда до властей дошли сведения о деятельности Кабановой, такое религиозное движение, как штундизм, было объявлено, согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 3 сентября 1894 г., «одним из наиболее вредных в церковном и государственном отношениях» (РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 985. Л. 38). Это дало возможность закрыть религиозные общины штундистов. Однако иоанниты до 1908 г., когда состоялся IV Миссионерский съезд, не были официально объявлены еретиками или сектантами. В связи с этим костромские власти не имели на тот момент юридических оснований преследовать Кабанову и ее последователей.
Ответ прав. Иоанна Кронштадтского. По просьбе обер-прокурора Св. Синода о. Иоанну Сергиеву надлежало высказать свое мнение о культе Кабановой. Кронштадтский пастырь назвал вероучение Пелагии Кабановой «изуверным, невежественным, несмысленным» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 5). При этом отметил, что подобное лжеучение «между невеждами и несмысленными» не является новым, особенно среди женщин и иногда мужчин «безграмотных и темных». Не новым, т.к., подобно Кабановой, «также изуверная и несмысленная» женщина появилась в Самарской губернии в январе 1894 г., как сообщил об этом о. Иоанну самарский преосвященный Гурий (Буртасовский). Эту женщину звали Екатерина Клипикова. По словам о. Иоанна, «её лжеучение почти аналогично с Кабановой» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 5 об.).
После этого о. Иоанн переходит к оправданию своей пастырской деятельности, доказывая, что она протекает в полном соответствии с православным вероучением: «свидетель мне испытующий сердца и утробы Бог, что ни малейшего повода не давал к появлению таких бабий басен, каким она учит простой, доверчивый народ» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 5 об.). Важно заметить, что св. прав. Иоанн Кронштадтский полагает, что его совесть — лучший показатель приверженности церковному вероучению. Он не прибегает к свидетельству своих последователей, которых к тому времени было достаточно. Священническая совесть, по его мнению, верное и достаточное доказательство приверженности истинной вере.
Не стоит забывать, что о. Иоанн в строгом смысле не был богословом, он был подлинным свидетелем веры. Но отсюда не следует, что батюшке были чужды богословские рассуждения. Праведный Иоанн Кронштадтский четко разделял, что Божественная и человеческая природа различны. На основании этого пастырь называл себя «человеком грешным и немощным». К такому убеждению он пришел, как сам заявлял, под влиянием «благодати Божией», а также долговременного служения в священническом сане. Он отмечал: «Благодать Божия» и опыт священства «укрепили во мне веру в Господа и Св. Церковь, равно как сознание своей немощи и греховности и потребность в непрестанном содействии мне благодати Божией». О. Иоанн заявлял, что «никогда не мыслил о себе высоко, а признавал… что я немощный и грешный паче всех человек» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 6).
Затем Иоанн Кронштадтский исповедует веру во Христа: «нет иного имени под небесем, нем же подобает спасаться нам, кроме Имени Иисуса Христа, которым я непрестанно спасаюсь и побеждаю грех и противника диавола. Иисус Христос, Сый на Небеси, сидит одесную Отца и с верными Своими пребывает и пребудет до скончания века». Заключает свое послание Кронштадтский пастырь угрозой отлучения от Церкви. Как бы обращаясь ко всем, кто будет следовать учению Кабановой и станет учит иначе, чем ортодоксальная вера, «анафема да будет по слову Апостола» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 6 об.). Мысль взята из Послания апостола Павла к Галатам. И вряд ли случайно. Известно, что ап. Павел упрекал галатов в том, что они отступили от истинного вероучения, данного им при наставлении в вере. Апостол убеждал не следовать иному учению, даже если оно будет возвещаться ангелом (Гал 1:8). Праведный о. Иоанн Сергиев, следуя апостолу, требует держаться церковного вероучения и не принимать иного учения, даже если оно возвещается от имени Кронштадтского пастыря.
В конце послания о. Иоанн увещевал Кабанову следующими словами: «оставь свой бред и свое нелепое и бессмысленное невежество; принеси повинную голову свою пастырям и судьям, коих ты смутила своей вредной новизной, и веруй, как все православные христиане веруют и исповедуют» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 6 об.). Угроза анафемы сопровождается побуждением к покаянию, которое, как надеялся прав. Иоанн Кронштадтский, изменит неправославный образ мыслей Кабановой. Он призывал Кабанову, а вместе с ней и всех ее последователей, ходить в церковь к своим пастырям, принимать от них церковные таинства. Праведный Иоанн Кронштадтский напоминал, что полнота Церкви присутствует в любом православном храме, где служит законный священнослужитель, даже если этот священнослужитель является в глазах иоаннитов недостойным пастырем. Abusus non tollit usum1.
Рассмотрение данного дела дает основание выдвинуть несколько предположений. Иоаннитское движение, как оно представлено в учении Кабановой, являлось новым в истории Русской Церкви. Оно, безусловно, имело много общего с учением хлыстов, но было немало различий. Идея воплощения Христа в отдельной личности сближала иоаннитов с хлыстами. Это сходство столь значительно, что дает некоторое основание говорить о влиянии хлыстов на иоаннитов.
Еще одним сходством было отрицание иоаннитами брачных союзов, как это было также у хлыстов. Впоследствии православные миссионеры критиковали иоаннитов за ложное понимание брачного союза мужчины и женщины [Куляшов, 1907, 635-638; Диаконов, 1911, 13-18]. Была ли у Кабановой идея отрицания браков, сказать непросто. Но показательно, что ее последователь Коляскин оставался со своей семьей. В деле сказано: «все иконы в доме Коляскина заменила портретами о. Иоанна, поставила лампаду пред ними и молится пред его портретами вместе со всей семьей (выделено мною. — М. О.) Коляскина» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 1 об.). Также Коляскин по окончании следствия заявил, что «с семейством» остается преданным Церкви (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 7). С полным основанием можно допустить, что в учении Кабановой идея борьбы с брачным союзом не имела места.
Сектантский характер иоаннитов проявлялся также в том, что они втайне от священников собирались на молитвы в своих домах. «На собраниях при закрытых дверях и завешанных окнах молятся, читают акафисты и песни духовного содержания, есть, говорят, и самими сочиненные», — доносил свящ. Алексий Солнцев (ЦГИА. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 об.). Правда, он же указывал на то, что эти прихожане усердно посещают храм, «таинств и обрядов церковных не чуждаются». Напротив, несколько раз в году исповедуются и причащаются, на службы приходят очень часто (ЦГИА. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 38. Л. 2). Но не все иоанниты относились к духовенству таким образом. На Юге России Прохор Скоробогатченков проповедовал, что истинным пастырем является только о. Иоанн Кронштадтский, в котором воплотился Бог, а остальных священников объявил безблагодатными (см.: [Зимина: Иоанниты, 2010, 128]). Иоаннитка Кабанова, судя по следственному делу, не объявляла духовенство безблагодатным. Однако сам факт того, что она организовывала тайные молитвенные собрания в домах крестьян, говорит о сектантском характере ее учения. К тому же слова о. Иоанна, адресованные Кабановой, о необходимости принести покаяние своим пастырям, косвенно говорят о неприятии ею приходских священников.
Но есть между иоаннитами и хлыстами крупное различие, которое, в сущности, сводит на нет отождествление двух сект. Иоанниты, в том числе Кабанова, признавали в православном священнике духовного вождя, именуя его «Спасителем». Да, они почитали только одного пастыря — о. Иоанна Кронштадтского. Но если встать на их точку зрения, то нужно заключить, что такой пастырь мог появиться только в Церкви. У хлыстов, наоборот, было полное отрицание церковной иерархии, идея «всеобщего священства».
Далее, у иоаннитов налицо идея харизмы, т. е. одного выдающегося лица, в котором якобы воплотился «Спаситель». Других таких «Христов» у иоаннитов не было. Хлысты же проповедовали, что «Христос» в принципе может воплотиться в любом человеке, принадлежащем к их общине. А. И. Клибанов обратил внимание на «демократический характер» хлыстов, т. к. во время радений они верили, что каждый обретает в себе Христа (см.: [Клибанов, 1965, 58]). В учении Кабановой только один «Спаситель», ни за кем другим она не признавала такой «привилегии».
Нет в проповеди Кабановой намеков на хлыстовское учение о предсуществовании и переселении душ. Непросто сказать, что именно подразумевала Кабанова, говоря, что св. прав. Иоанн Кронштадтский есть «Спаситель». Был ли он в ее понимании пришедший вторично на землю Христос (как толкует православная эсхатология), или же очередной «Спаситель», как это понималось хлыстами, т.е. человек, в которого вселился Бог, чтобы возвестить людям новое откровение? Однако сам факт горячей проповеди бросать все и бежать в Кронштадт показывает, что она верила во Второе пришествие Христа в соответствии с православной эсхатологией. Можно добавить, что Кабанова готова была пострадать за о. Иоанна, как об этом было сказано выше. У хлыстов же, как отмечает Т. Буткевич, «мысль о необходимости искупителя человечества» отсутствует. Для них «Спаситель», «Саваоф» — это очередной проповедник, возвещающий новое учение [Буткевич, 2018, 30]. Хлысты не шли на страдания ради своих «пророков». Кабанова же, как было показано, готова была терпеть за своего «Спасителя» (РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 2017. Л. 2).
Всматриваясь в дело Пелагии Кабановой и сопоставляя его с подобными делами об иоаннитах, можно прийти к выводу, что в нем слабо выражено вероучение хлыстов. Вариант иоаннитского движения, представленный у Кабановой, говорит о том, что ее учение только в некоторых чертах напоминало учение хлыстов, но в сущности таковым не являлось. Н. П. Зимина полагала, что молитвенные собрания иоаннитов, во время которых рядом с иконами вывешивались изображения св. прав. Иоанна Кронштадтского, «богородицы» Порфирии, «старца Назария», не имели никакого сходства с культом хлыстов. Основываясь на опубликованных материалах, исследователь пришла к выводу, что внецерковные моления иоаннитов являлись попыткой восстановить жизнь в духе первохристианской общины, по примеру апостолов (см.: [Зимина: К вопросу, 2010, 34]). Вместе с этим нет основания отрицать неканонический характер вероучения Кабановой. Ее культ явно расходился с церковным учением, о чем свидетельствовал и сам св. прав. Иоанн Кронштадтский.
Наконец, сопоставление дела Пелагии Кабановой с другими делами об иоаннитах показывает, что данное религиозное движение не было однородным. У Кабановой видим отрицание канонических икон; иоанниты Гдовского уезда церковные иконы почитали. В уфимской общине иоаннитов В. Воронова в молитвенных помещениях вместе с портретами св. Иоанна Кронштадтского стояли иконы (см. подр.: [Зимина: К вопросу, 2010, 43]). Кабанова полагала, что св. прав. Иоанн Кронштадтский является «Спасителем», другие иоанниты называли его «Богом Саваофом» (ЦГИА. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 об.), иные видели в нем «Ангела Божия» [Боголюбов, 1909, 8].
Из дела Кабановой видно, что иоанниты в первое время становления этого религиозного движения не имели единой структуры управления, действовали как независимые друг от друга личности. Их объединяла только вера в харизму о. Иоанна Кронштадтского, паломничество в Кронштадт, своеобразный культ, нередко расходившийся с ортодоксальным православием. Однако многие стороны этих частных вариантов почитания о. Иоанна расходились между собой. Учение Кабановой является одним из фрагментов лоскутного одеяла иоаннитства, безвестно растворившегося в бурном потоке религиозного брожения.