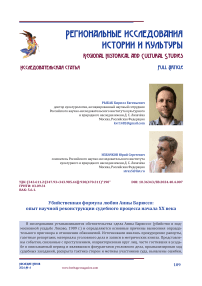Убийственная формула любви Анны Барюссо: опыт научной реконструкции судебного процесса начала XX века
Автор: Рыбак К.Е., Избачков Ю.С.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Региональные исследования истории и культуры
Статья в выпуске: 4 (40), 2024 года.
Бесплатный доступ
В исследовании устанавливаются обстоятельства «дела Анны Барюссо» (убийство в подмосковной усадьбе Ляхово, 1909 г.) и определяются основные причины вынесения оправдательного приговора в отношении обвиняемой. Источниками явились прокурорские рапорты, газетные репортажи, материалы уголовного дела и записи в метрических книгах. Представлены события, связанные с преступлением, охарактеризован круг лиц, часто гостивших в усадьбе в описываемый период и являвшихся фигурантами уголовного дела, проанализирован ход судебных заседаний, раскрыта тактика сторон и мотивы участников суда, выявлены ошибки, допущенные правоохранителями на этапе предварительного следствия и в процессе судебного разбирательства. Установлены факторы, повлиявшие на вынесение присяжными оправдательного вердикта обвиняемой А. Барюссо. Важным практическим аспектом исследования выступает возможность использования забытого эпизода с убийством для раскрытия потенциала усадьбы Ляхово как объекта музейного показа.
Реконструкция судебного процесса, «дело анны барюссо», усадьба ляхово, бронницкий уезд, московский окружной суд, суд присяжных, состояние аффекта, «формула любви»
Короткий адрес: https://sciup.org/170209060
IDR: 170209060 | УДК: [343.611.2:[347.93+343.985.44]]:930(470.311)”190” | DOI: 10.36343/SB.2024.40.4.007
Текст научной статьи Убийственная формула любви Анны Барюссо: опыт научной реконструкции судебного процесса начала XX века
Исследование обстоятельств громких преступлений, совершенных многие годы назад, представляет собой один из интереснейших аспектов изучения прошлого. Анализ документальных свидетельств и журналистских публикаций, сделанных «по горячим следам», иногда может существенно дополнить выводы давно завершившегося следствия, выявить новые мотивы злоумышленников и прояснить обстоятельства возникновения соответствующего замысла. Подобные научные изыскания являются в полной мере муль-тидисциплинарными и охватывают не только область истории права, его институтов и норм, но и предоставляют обширный материал для выводов, касающихся тех или иных сторон социальной истории и истории повседневности, ведь такого рода преступления получали широчайший общественный резонанс. Немаловажное значение имеют и характеристики места совершения преступления, особенно если оно связано с достаточно известными архитектурными и градостроительными объектами, которые ныне обладают статусом, отражающим их высокую культурную ценность. В этом случае историческая реконструкция события преступления и связанных с ним обстоятельств становится частью локальной истории и возникших на ее основе нарративов, легенд, формирующих своеобразную уникальную атмосферу - «гений места», присущий той или иной локации.
В данном исследовании проанализировано так называемое «дело Анны Барюссо», или «Бронницкое убийство», произошедшее в 1908 г. в усадьбе Ляхово под Москвой. Это старинное имение расположено в одноименной деревне Домодедовского района Московской области, в исследуемый период сельцо Ляхово состояло из 39 дворов и располагалось в пределах Лобановской волости, входившей в Бронницкий уезд Московской губернии. Сама же усадьба принадлежала дворянину Алексею Алексеевичу Варгину, который фактически являлся ее последним частным владельцем [18, с. 21].
С 1974 г. архитектурный ансамбль поставлен на государственную охрану [16] как объект культурного наследия федерального значения. Сейчас от усадебного комплекса сохранилось только постепенно разрушающееся главное здание, остальные постройки находятся в руинированном состоянии; парк заброшен, местные жители пасут в нем коз.
Усадьба широко известна как место съемок популярного телевизионного фильма «Формула любви» (Мосфильм, 1984 г., режиссер М. А. Захаров, автор сценария Г. И. Горин, композитор Г. И. Гладков) о приключениях знаменитого итальянского авантюриста графа Алессандро Калиостро в Российской империи. Фильм был снят в жанре музыкальной фантасмагории и запомнился зрителям тонкой историей любви и великолепным актерским составом.
Вместе с тем впервые широкую известность усадьба Ляхово получила в 1908 г., когда в ней из ревности было совершено убийство шестнадцатилетней девушки. Участники тех трагических событий - молодые люди, которых принято называть «золотой молодежью», убийца Анна Барюссо, знакомая хозяев усадьбы Варгиных, вскоре сама сдалась полиции, но в конечном итоге была оправдана, а сам эпизод с убийством в усадьбе Ляхово вскоре утратил свою актуальность для общественного сознания и был забыт.
В историографическом смысле данное дело может рассматриваться как один из случаев, раскрывающих в своей конкретике раз- личные аспекты истории отечественного права и его институтов (таких, например, как суд присяжных). Подобные случаи, фигурировавшие в судебной практике с 1864 г. (начало судебной реформы), изучались достаточно подробно уже с момента своего возникновения [12]. Существенный всплеск интереса к ним имел место в начале 1990-х гг. [17] и на протяжении последующих десятилетий оставался неизменно высоким. Среди отдельных публикаций, посвященных подобным резонансным делам, следует назвать исследования И. В. Немкевича (о «деле Кроненберга» 1873 г.) [14], А. В. Кокурина (о «деле Прасковьи Качки» 1879 г.) [11], В. В. Хасина (о «Люцинском деле» 1885 г.) [19], К. И. Исаевой и Н. И. Кар-чевской (о «деле Маргариты Жюжан», 1878 г.) [7], М. Б. Маммаевой и Е. А. Иванченко (о «деле Мавры Волоховой») [13] и др.
Кроме того, рассматриваемое «дело Анны Барюссо» является частным случаем, иллюстрирующим процессы, происходившие в судебно-правовой сфере Российской империи в последней трети XIX - начале ХХ в., и явления, во многом типичные для нее. Этот круг проблем также получил определенное освещение в научных публикациях. Так, на вынесение оправдательных приговоров судами присяжных обращали свое внимание В. П. Горбачев [1], Ф. Б. Гребенкин и Н. Н. Рогова [2], а также Ф. Ш. Ямбушев и соавторы [47]. А. А. Демичев и В.А. Илюхина рассматривали вопросы гендерного равенства в суде и статус подсудимых женщин [6]; Н.А. Гречишкина исследовала судебные решения, вынесенные в отношении лиц с патологической предрасположенностью к аффективным реакциям [3]; особенности освещения судебных процессов в прессе были изучены Е. В. Переваловой на примере дела Веры Засулич [15].
В целом же, несмотря на обилие смежных и близких в тематическом отношении исследований, приходится констатировать, что в научно-исследовательской и краеведческой литературе «дело Анны Барюссо» не упоминается, хотя в свое время газетные отчеты о его рассмотрении в суде читала вся страна.
Настоящее исследование нацелено на установление обстоятельств «дела Анны Барюссо» и определение основных причин вы несения оправдательного приговора в отношении обвиняемой. Важное значение имеет также выявление практической значимости проведенного исследования в аспекте возможной музеефикации усадебного комплекса Ляхово и последующего создания экскурсионных программ для привлечения посетителей.
Массив использованных источников достаточно разнообразен. Так, в Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА М) в фонде Московской судебной палаты сохранилось уголовное дело об этом убийстве [22]. Особый интерес в нем представляют материалы полицейского дознания, вопросы рассмотрения дела в Московском окружном суде, а также документы, связанные с обжалованием приговора в Московской судебной палате и Сенате.
Основным источником рассмотрения дела в суде присяжных является серия репортажей в газете «Русское слово» под заголовками «Бронницкое убийство» [8] [9] [10] и «Дело Барюссо» [4] [5]. Если из материалов дела можно составить представление в первую очередь о позиции обвинения, то газетные публикации по большей части раскрывают позицию защиты. Это не удивительно, поскольку подсудимую представлял присяжный поверенный Сергей Иванович Варшавский (1879–1945), который сам был журналистом этой газеты и постоянным представителем редакции газеты «Русское слово» (издательство И.Д. Сытина) в ряде судебных процессов по привлечению редакторов к ответственности за недостоверные публикации. Следует особо отметить, что в газетных статьях слова защитника были представлены гораздо более подробно, нежели в протоколах судебных заседаний.
Подробности судебного заседания, проходившего в основном за закрытыми от публики и репортеров дверями, можно узнать из рапорта товарища прокурора Московского окружного суда Л. П. Олышева прокурору Московской судебной палаты [25, л. 83–86]. Там же изложена общая точка зрения обвинения на рассматриваемое дело, включая характеризующие отзывы о свидетелях. Отдельные сведения можно почерпнуть из личного дела Евгения Евгеньевича Измайлова как кандидата на судебные должности в Московском окружном суде [27]. Биографические данные об участниках дела (в данном случае - события рождения и заключения браков) содержатся в метрических книгах.
Методологической основой исследования стал системно-исторический подход, применение которого позволило выявить существенные взаимосвязи между рассматриваемыми фактами и включить их в общий контекст событий и явлений, характерных для изучаемого периода. Герменевтический метод позволил интерпретировать факты, относящиеся к событию преступления и по-разному истолковываемые сторонами процесса, в правильном ключе, что способствовало установлению логических связей между этими фактами. Другим значимым инструментом исследования стал метод реконструкции, позволивший воссоздать события, связанные с совершенным преступлением и отраженные в дошедших до нас источниках.
Последовательность проведения исследования была продиктована совокупностью избранных методов и самим характером рассматриваемого случая. В первую очередь необходимо в общих чертах описать события, связанные с преступлением, после чего представляется важным восстановить основные биографические факты об обвинявшейся в убийстве Анне Барюссо (рождение, родительская семья, брак). Существенное значение имеют освещение ее взаимоотношений с семьей Варгиных и характеристика круга лиц, часто гостивших в Ляхово в описываемый период и в том или ином качестве являвшихся фигурантами уголовного дела. В целях более детального анализа желательно выявить наиболее показательные факты из их биографий, привлекая при этом характеристики из изучаемого уголовного дела. Кроме того, важнейшую роль в установлении обстоятельств дела играет определение характера отношений между обвиняемой и ее возлюбленным, вызвавшим ее ревность, приведшую к убийству. Полное изучение «дела Анны Барюссо» предполагает, помимо всего, анализ хода судебных заседаний, процедур отбора присяжных заседателей, допросов свидетелей, основных тезисов речи адвоката, что позволит реконструировать стратегию защиты, выявить задачи
(в первую очередь неочевидные), стоявшие перед стороной обвинения, и, наконец, определить формальное основание для последующей отмены оправдательного приговора, вынесенного судом присяжных. При исследовании повторного судебного процесса необходимо отразить его обстоятельства, затронув особенности поведения обвиняемой, и проанализировать ошибки, допущенные правоохранителями на этапе предварительного следствия, а также в процессе судебного разбирательства, определив таким образом причины окончательного оправдания Анны Барюссо.
Данное исследование, посвященное практически забытому ныне уголовному делу, будет безусловно способствовать введению в научный оборот новых источников, а также поможет расширить представления об истории суда присяжных в Российской империи и о повседневной стороне жизни обитателей русских дворянских усадеб в начале ХХ в. Существенное значение имеет и характеристика практической значимости исследования в аспекте возможной музеефикации усадьбы Ляхово.
* * *
Фабула рассматриваемого дела заключается в следующем. В ночь на 2 января 1908 г. Анна Бонифатьевна Барюссо 1 находилась в гостях в усадьбе Ляхово. Молодые люди, как обычно, веселились и выпивали. В один из моментов Анна Барюссо зашла в комнату, где, как ей показалось, под одеялом на диване «ворковали» ее любовник Евгений Измайлов и девица Анастасия Сафонова. На это указывало то, что она откинула одеяло и стала поправлять задранное платье, по свидетельству Анны Барюссо, когда зажгли свет. Увиденная сцена сильно взволновала ее [8, с. 2] [4].
Спустя три дня, в ночь на 5 января 1908 г., компания, за исключением уехавшего в Москву Евгения Измайлова, снова собралась в Ляхово. К двум часам ночи все разошлись. Анастасия Сафонова легла спать в беседку (флигель для приезжих), там же находилась Зоя Иноземцева - домашняя портниха Варгиных.
Около двух часов ночи Анна Барюссо пришла в беседку, при себе у нее был привезенный из Москвы револьвер. Она разбудила Зою Иноземцеву и, сказавшись больной, попросила передать записку Е. В. Измайловой. Выманив таким образом женщину из беседки, Анна Барюссо подошла к спящей сопернице и с расстояния 15 см дважды выстрелила ей в голову. От полученных ранений Анастасия Сафонова скончалась на месте [37, л. 207] [41, л. 107, 112]. Зоя Иноземцева услышала выстрелы, но приняла их за сухой треск закрывающейся ветром форточки.
После убийства Анна Барюссо сразу же отправилась на станцию Барыбино (около 8 км пешком), откуда уехала в Москву; а вечером сама сдалась полицейским приставам, предъявив им орудие убийства - револьвер.
Согласно записи в метрической книге церкви Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле (Пречистенского сорока), 6 января 1908 г. дочь мещанина Сергиева Посада девица Анастасия Петровна Сафонова шестнадцати лет умерла от огнестрельной раны головы (насильственная смерть) и была похоронена на Даниловском кладбище [41, л. 107].
Предваряя дальнейшее изложение, остановимся на родословной Анны Барюссо (Людольф). Согласно брачному обыску СпасоПреображенской церкви в Наливках (Замоскворецкого сорока) от 29 июня 1873 г., французский гражданин, шляпных дел мастер Бо-нифас1 Людольф2, римско-католического вероисповедания, 24 лет (по состоянию на март 1873 г.), проживавший в доме Завитаевой, и московская мещанка Сретенской слободы Зинаида Петрова (фамилия не указана), 20 лет 11 месяцев (по состоянию на июнь 1873 г.), проживавшая в том же доме, пожелали вступить в брак [38, л. 16, 111] [29, л. 719].
-
26 августа 1873 г. у Бонифация Людоль-фа и Зинаиды Петровны родилась дочь София [29, л. 623]. Впоследствии у Бонифация Лю-дольфа и его второй жены Натальи Егоровны 20 июля 1875 года родилась еще одна дочь
София, которая 25 июля 1876 г. умерла от кишечного расстройства и была похоронена на Пятницком кладбище [28, л. 497].
-
29 ноября 1879 г. у Бонифация Лю-дольфа и Натальи Егоровны родилась дочь Анна [30, л. 357] [34, л. 318], уголовному делу которой посвящена эта статья. 2 июля 1882 г. на свет появился сын Александр 3 [32, л. 249] [45, л. 34].
В 1894 г. Александр и Анна Людольф проживали в доме Рябушинского в приходе Вознесенской церкви близ Сретенки (Сретенского сорока) [42, л. 6]. В 1904 и 1906 гг. в числе проживавших в доме Рябушинского упоминается жена французского гражданина Наталья Егоровна Людольф, 55 лет (в 1904 г.) [43, л. 6] [44, л. 10] [40, л. 30] [39, л. 10].
-
7 июня 1899 г. в Вознесенской церкви близ Сретенки состоялось бракосочетание французского гражданина Луи Франсуа Аристида Барюссо [46, л. 77], католического вероисповедания, 23 лет, проживавшего в доме Карзинкина Тверской части 3 участка, и Анны Бонифасовны Людольф, 19 лет, проживавшей в доме Рябушинского [35, л. 37].
Непосредственная предыстория описанных трагических событий в Ляхово изложена в рапорте товарища прокурора Московского окружного суда Л. П. Олышева. В частности, за 12 лет до убийства дочь шляпного мастера [22, л. 11] Анна Бонифатьевна Людольф познакомилась с семьей помещика А.А. Варги-на. У госпожи А. И. Варгиной был сын Евгений Евгеньевич Измайлов [33, л. 54, 6] [21], родившийся в 1882 г. от брака с отставным штабс-капитаном Е. М. Измайловым, при этом данный брачный союз был уже вторым в ее биографии [33, л. 54].
На момент знакомства молодому Евгению Измайлову было 14 лет, Анне Людольф шел восемнадцатый год. Юноша начал ухаживать за ней, однако окружающие воспринимали это несерьезно, тем более что Анна уже была невестой французского подданного Луи Барюссо, за которого вскоре вышла замуж.
В период замужества Анна Барюссо перестала бывать у Варгиных; ее посещения возобновились после смерти мужа в 1904 г. от бронзовой болезни (болезнь Аддисона, или хроническая недостаточность коры надпочечников). Анна сблизилась с вдовой старшего брата Измайлова, Елизаветой Васильевной Измайловой, молодой женщиной 23 лет.
К этому времени Евгений Измайлов окончил училище правоведения, успел побывать на русско-японской войне, откуда вернулся в декабре 1905 г., награжденный Георгиевским крестом. Будучи веселым и общительным, он быстро стал центром кружка молодежи, который стал собираться в имении Варгиных.
Анна Барюссо приехала в Ляхово в январе 1906 г. и, прогостив несколько недель, вступила с Евгением Измайловым в интимную связь, которую они старались скрывать. Только самые близкие догадывались о происходящем между ними. Анна стала часто приезжать в Ляхово, где принимала участие в увеселениях молодежной компании, внося в нее свойственное француженке оживление.
Кружок состоял из Евгения Измайлова, Анны Барюссо, Елизаветы Измайловой, соседей Варгиных по имению - Волкова и юнкера Соколова, а также родственниц Елизаветы Измайловой сестер Сафоновых - Натальи восемнадцати лет и Анастасии шестнадцати лет, которые с детства бывали в Ляхово [36, л. 172]. Иногда в усадьбу приезжали и товарищи Е. Измайлова, кандидаты на судебные должности1 - Михаил Островский и двоюродный брат Измайлова Владимир Волынский.
Михаил Павлович Островский [24], 1883 года рождения, проходил курс юридических наук в Императорском Московском университете, по окончании которого в 1906 г. стал младшим кандидатом на судебные должности. В основном служил секретарем у прокурора Московской судебной палаты. Из личного дела следует, что он был сыном сенатора П. Г. Островского 2 [24, л. 25]. В карьере
М. П. Островского имелся один показательный эпизод. В 1910 г. ему пришло указание отправиться в Архангельский окружной суд для службы в качестве товарища прокурора, однако за несколько дней до этого его уже направили на ту же самую должность в Ярославский окружной суд. Возможно, М. П. Островскому помогли избежать службы в северной губернии, представлявшейся довольно бесперспективным направлением карьеры.
Владимир Иванович Волынский, 1882 года рождения, в 1904 г. закончил Императорский Московский университет, службу начал с младшего кандидата на судебные должности при прокуратуре Московской судебной палаты, являлся товарищем прокурора Московского окружного суда с 27 октября 1907 г. по 27 сентября 1908 г. Некоторое время после рассмотрения дела А. Барюссо он находился в отставке, однако в последующем стал товарищем прокурора Кашинского, а затем Рязанского окружных судов [23].
В рапорте товарища прокурора Московского окружного суда Л. П. Олышева имеется такая характеристика Е. Измайлова и его товарищей: «Останавливаясь по долгу службы на поведении Волынского, Островского и Измайлова, как лиц, принадлежащих к судебному ведомству, я по совести должен удостоверить, что в поведении Волынского и Островского, сравнительно редко бывавших в Ляхове, ничего предрассудительного не выявилось. В судебном заседании они держали себя вполне корректно, в особенности Волынский, показание которого было дано с большим достоинством, свидетельствовавшем об его уме и такте. Что же касается Измайлова, то, безусловно, на него падает часть ответственности за ту распущенность, которую проявляли собиравшиеся в имении его родителей лица. И судьба жестоко наказала его за легкомысленное отношение к жизни, связав его с женщиной, несомненно истеричной, крайне ревнивой и мстительной и сделав его невольным виновником смерти несчастной девушки» [25, л. 246, 250–250 об.].
В Ляхово молодежь устраивала пикники, прогулки, танцы, а к вечеру все собирались в так называемой беседке - трехкомнатном флигеле, в котором жил Е. Измайлов. Там, в комнате с угловым диваном и роялем, они засиживались до утра, беседовали, пели, употребляли спиртные напитки.
На основании собранных по делу сведений установлено, что молодые люди в Ляхово много пили, в особенности временно проживавший у Варгиных врач Усанов. Е. Измайлов, будучи человеком крепким и здоровым, мог выпить очень много, А. Барюссо пила прилично. Е. Измайлова пить не умела, будучи истеричной и нервной, быстро пьянела, приходя в бессознательное состояние после трех рюмок водки [25, л. 84].
Впоследствии газеты писали об оргиях, которые, якобы, устраивались в Ляхово. В частности, брат Анны Барюссо Александр Людольф сообщил, что однажды после ночного кутежа вся компания пошла гулять в усадебный парк в «костюме Адама». Однако других свидетельств этому не было получено. Такие показания брата Анны легко объяснимы стремлением оправдать сестру. Защита по делу пыталась создать у суда общее впечатление о событиях в Ляхово как о проявлениях порока и разврата. Тем самым присяжные склонялись к мысли, что у подсудимой был повод для ревности, а сама она пала жертвой обмана своего любовника. По показаниям же самой А. Барюссо, их отношения благоприятно влияли на Е. Измайлова, речь шла о браке.
Кроме встреч в усадьбе, А. Барюссо и Е. Измайлов виделись в Москве, посещали театры и рестораны, интимные свидания проходили в гостинице. Со слов Анны, Евгений обещал на ней жениться. При этом во время их любовной связи она дважды прибегала к искусственным выкидышам. По ее показаниям, данным в суде при закрытых дверях [5], эти операции были проведены по требованию Е. Измайлова, который, также при закрытых дверях, категорически заявлял, что об абортах узнал только после случившегося. Уже позднее, в мае 1909 г., во время повторного суда допрос Е. Измайлова проходил в присутствии публики. Он показал, что о первом аборте узнал после операции, а слова о второй беременности не воспринял серьезно. В прокурорском рапорте содержится указание на проведение предварительного следствия в отношении Е. Измайлова о подстрекательстве к соверше- нию аборта. Однако доказательства его вины не были представлены. В архиве это следственное дело нами не обнаружено.
С лета 1907 г. Е. Измайлов стал охладевать к А. Барюссо, но их разрыв наступил не сразу, временами связь возобновлялась. Анна, будучи крайне ревнивой, решила, что причиной охлаждения к ней возлюбленного является младшая из сестер Сафоновых - Анастасия. Несколько свидетелей показали, что с лета 1907 г. Е. Измайлов стал оказывать ей знаки внимания, высказываясь не раз о том, что из Анастасии Сафоновой выйдет хорошая жена.
В ночь на 2 января 1908 г. вся компания собралась во флигеле Е. Измайлова, где молодые люди просидели всю ночь. А. Барюссо заподозрила, о чем впоследствии заявила, что Е. Измайлов, полулежа на оттоманке рядом с Анастасией Сафоновой, прикрылся с ней одеялом, и они стали заниматься «утонченным развратом» [8]. Товарищ прокурора Л. П. Олышев сообщал в рапорте, что «подозрение это, однако, не подтвердилось, и было установлено, что Измайлов с Настей ничем не покрывались. По удостоверению же лиц, близко знавших покойную, это была девушка тихая, скромная, и к ней, по словам Островского, ни один мужчина не осмелился бы подойти с “гадкой мыслью”. Отношения между ней и Измайловым, который, по показанию Волынского, всегда дорожил честью девушек, были самые чистые. Ознакомившись по данным предварительного и судебного следствия с тем, что происходило в имении Варгиных, нельзя не прийти к заключению, что там царила крайняя нравственная распущенность, но ни о каком разврате говорить не приходится - это плод фантазий людей, склонных видеть во всем одно лишь дурное и для злословия которых весь обиход семьи Варгиных дал, к сожалению, богатую пищу» [25, л. 85].
Судебное заседание проходило в Бронницах 16 и 17 октября 1908 г. на выездной сессии под председательством товарища председателя Московского окружного суда А. П. Гудим-Левковича1. Защиту интересов семьи убитой девушки осуществлял при- сяжный поверенный М. Ходасевич. Публику пускали в зал только по билетам. Среди присутствовавших было много москвичей, специально приехавших понаблюдать за слушаниями [8, с. 2].
Из девятнадцати кандидатов в присяжные заседатели прокуратура отвела только одного - местного податного инспектора Нечаева, поскольку в отношении него были получены сведения, что он открыто выражал необходимость оправдания А. Барюссо.
Объяснения подсудимой и показания Е. Измайлова были даны при закрытых дверях. Вечером, во время допроса свидетеля Волкова, явившегося в суд пьяным, что произвело негативное впечатление на присяжных заседателей, загорелись амбары и склады напротив здания суда, что вызвало панику среди публики. Участники процесса и зрители были срочно эвакуированы.
Товарищ прокурора отмечал одно обстоятельство, которое сыграло на руку защите: «При выходе из суда я обратил внимание на то, что свидетели, вызванные со стороны защиты: врач Усанов и сводный брат Измайлова - Родионов, настолько пьяны, что, не случись пожара, они не могли бы быть допущены к даче показаний. На следующий день свидетели Волков и Усанов явились вполне трезвыми. Родионов же не явился без объяснения причин, и показание его, с согласия сторон, было признано несущественным. По поводу неявки этого свидетеля защитник, между прочим, заявил, что ему известно, что свидетель этот после перерыва участвовал в какой-то пирушке, каковое обстоятельство не могло не произвести впечатление на присяжных заседателей, тем более что Родионов был родственником Измайлова» [25, л. 85об.–86].
Убеждение присяжных заседателей в негативной атмосфере, созданной Е. Измайловым и его родственниками в усадьбе Ляхово, стало частью стратегии защиты, заключавшейся в смещении акцентов с убийства и связанных с этим тем невинности [22, л. 28–31] и невиновности погибшей на любовную драму между А. Барюссо и Е. Измайловым. Выставляя Анну в качестве жертвы соблазнителя и его аморального окружения, защита, во-первых, отвлекала внимание от собственно убийства, во-вторых, вызывала симпатию к подсудимой и, в-третьих, подкрепляла ее версию о связи между Евгением Измайловым и Анастасией Сафоновой.
Свидетели в основном характеризовали убитую как тихую, скромную, приветливую девушку, «почти ребенка», которая хотела учить детей и заниматься домашним хозяйством [10].
Однако не все свидетели были с этим согласны. Так, Тросницкая, знавшая участников трагедии, упомянула в своих показаниях о сильной склонности усадебной молодежи к употреблению спиртных напитков. А. Ба-рюссо же она считала вполне порядочной женщиной, глубоко любившей Е. Измайлова. Тросницкая также замечала его сближение с Анастасией Сафоновой и мучительную ревность Анны. Дважды она пыталась поговорить об этом с А. Сафоновой. В первый раз та ответила с усмешкой, что она тут ни при чем, а в другой раз девушка просто ушла, не сказав ни слова [9].
Речь присяжного поверенного С. И. Варшавского почти полностью была посвящена отношениям А. Барюссо и Е. Измайлова. Ее он описал как любящую, заботливую жену для своего мужа, а после его смерти - бескорыстно любящую, но многократно обманутую и бро-шеную Е. Измайловым. Компания, центром которой был Е. Измайлов, представлена кутежниками и пропойцами. Убитой был посвящен небольшой фрагмент: «Эта девочка Настя, которую гражданский истец так усиленно рядил в “коротенькие платьица”, и которой свидетель Островский все убавлял росту, оказалась по медицинскому осмотру и сохранившимся фотографическим карточкам “вполне сформировавшейся женщиной”, а ростом также значительно выше старшей своей сестры, взрослой девицы» [10].
Несмотря на кажущуюся нечестность такого поведения защиты, эта стратегия сработала. Присяжные оправдали А. Барюссо как в предумышленном убийстве, так и в убийстве в состоянии запальчивости и раздражительности [22, с. 225–225об.].
О причинах оправдательного вердикта товарищ прокурора Л. П. Олышев писал: «…я лично вынес впечатление, что вердикт этот являлся как бы протестом против той нрав- ственной распущенности, которая царила среди Ляховской молодежи, главным представителем которой был Измайлов - лицо, принадлежавшее к судебному ведомству» [25, л. 86].
Стоит остановиться на причинах общественного интереса к этому делу. Очевидно, что сама по себе любовная история и ее трагическая развязка привлекает публику. Когда же обыватели могут принять участие в деле вживую, хотя бы и пассивно в качестве зрителей судебного процесса, это вызывает еще больший интерес. Особенно, если «представление» под названием «суд присяжных» хорошо подготовлено сторонами процесса и анонсировано прессой. Кроме того, безусловно, отдельной причиной повышенного внимания к делу стали фигурировавшие в нем детали интимной жизни.
Евгений Измайлов на момент убийства был не просто кандидатом на судебные должности, а исполнял обязанности по должности товарища прокурора Московского окружного суда, то есть проходил службу в том же суде [27], в котором слушалось это дело, и был по должности равен товарищу прокурора, поддерживавшему обвинение. Два его друга, которые регулярно принимали участие в вечеринках - М. Островский и В. Волынский, тоже относились к судебному ведомству.
Помимо непосредственного выполнения служебных обязанностей перед прокуратурой стояла задача защиты чести мундира. В целом это не противоречило поддержанию обвинения против А. Барюссо, однако желание выгородить хотя бы М. Островского и В. Волынского могло сказаться на результатах дела.
Заметим, что поскольку у сторон не возникло сомнений в нормальности психического состояния А. Барюссо, вопрос о невменяемости подсудимой не поднимался. Соответственно, не было проведено судебнопсихиатрическое исследование.
Между тем защитник в конце своей речи указал присяжным заседателям, что если они остановятся на вопросе, не совершила ли подсудимая преступление в бессознательном состоянии, то вслед за этим должны просить суд о возвращении дела к доследованию. Председательствующий в своем напутственном слове, коснувшись условий невменяемости, не разъяснил присяжным заседателям их право ходатайствовать перед судом о возвращении дела для освидетельствования подсудимой в порядке статей 353–355 Устава уголовного судопроизводства, действовавшего в описываемый период. То, что председательствующий упустил из виду это разъяснение, являлось нарушением порядка судопроизводства с участием присяжных заседателей и стало формальным поводом для отмены оправдательного приговора суда. Указами Правительствующего Сената от 5 декабря 1908 г. и 25 февраля 1909 г. дело было направлено на новое рассмотрение в Московский окружной суд [22, л. 246, 250–250об.].
Тем не менее психиатрическое освидетельствование А. Барюссо не было произведено, хотя, судя по материалам дела, в этом была явная необходимость. Для определения виновности подсудимой важно было понять, какие из предшествовавших убийству событий действительно имели место, а какие были воспоминаниями или плодом воображения обвиняемой, в первую очередь сцена с «утонченным развратом» под одеялом, поскольку именно в этот момент, по словам А. Барюссо, у нее впервые возникло желание покончить с соперницей и любовником.
Следует отметить, что, в соответствии с современными представлениями, состояние аффекта - бурный, но кратковременный процесс. Заключение авторитетного врача, будучи надлежащим образом представлено присяжным, могло бы оказать решающую роль при вынесении приговора.
19 и 20 мая 1909 г. в Бронницах под председательством судьи Андреева и с новым составом присяжных заседателей состоялся повторный суд. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Тельпугов, интересы семьи убитой снова представлял присяжный поверенный М. Ходасевич.
Суд проходил быстрее, большинство свидетелей не явились, их показания были оглашены. Подсудимая вину опять не признала, допрос снова проводился за закрытыми дверями. Судебные репортеры описывают его как эмоционально тяжелый для А. Барюссо.
Стратегия защиты, как и в прошлый раз, сработала: присяжные повторно оправдали
Анну Барюссо. Дальнейшую ее судьбу проследить нам не удалось.
Не принижая роли присяжного поверенного С. И. Варшавского, сделавшего все, чтобы в нужную для его подзащитной сторону сместить акценты в ходе судебного разбирательства, следует отметить, что А. Барюссо изначально придерживалась строгой линии в общении с правоохранительными органами, судебным следователем. Придя в полицию, она заявила, что ее действия были продиктованы сильным нервным раздражением под влиянием ревности. Показания А. Барюссо последовательны на всем протяжении этого дела, включая отдельные детали, которые не подтверждаются показаниями других лиц.
Следует отметить, что процент оправдательных приговоров в судах Российской империи того времени был весьма высок. В прокурорской переписке в фонде Московской судебной палаты нами были обнаружены следующие данные об оправдании подсудимых: в суде присяжных - 40,6% приговоров, без участия присяжных заседателей - 19,2% приговоров [26, л. 278]. При этом анализ конкретных дел показывает, что часто присяжные заседатели принимали совершенно нелогичные решения.
Тем не менее, анализируя рассматриваемый процесс, следует обратить внимание на ряд ошибок, которые допустили правоохранители в ходе расследования и представления материалов дела в суде.
В первую очередь, это неудовлетворительная работа по осмотру места происшествия, схема которого не была составлена. Тем самым упущена возможность в дальнейшем сконцентрировать внимание присяжных на самом убийстве, а не на обстоятельствах, ему предшествовавших. Вероятно, доводы обвинения, изложенные вербально, воспринимались бы присяжными более внимательно, будучи подкреплены соответствующей схемо-графикой. Она позволила бы сориентировать присяжных заседателей непосредственно на событие преступления, и прокуратура могла бы раз за разом обращаться к ней в процессе отстаивания своих аргументов.
Сюда же следует отнести отсутствие фотографий места происшествия и убитой, по- скольку изображения ранений, как правило, оказывают сильное впечатление на присяжных заседателей. Их можно было бы использовать для внушения им сочувствия к жертве. Искусство фотографии позволяет преподнести объекты с разной степенью выразительности. Опытный фотограф может раскрыть некоторые детали преступления настолько ярко, что они прочно зафиксируются в памяти участников процесса и, возможно, решающе повлияют на исход дела. Поэтому среди экспертов имеет место негласное понимание необходимости избегать слишком ярких и запоминающихся фотоснимков, а фиксация полицией мест преступлений и жертв должна быть формальной и нейтральной.
Вторая оплошность - была потеряна записка, с помощью которой непосредственно перед убийством А. Барюссо выманила З. Иноземцеву. «Упомянутая записка, полученная Иноземцевой, была во время последующей суеты утеряна» - так это отражено в обвинительном акте [22, л. 104об.]. По словам З. Иноземцевой, записка содержала несколько приблизительно следующих фраз: «Дайте побыть день с ребенком1, мне скверно, не знаю, что со мной, простите» [22, л. 104об.].
Содержание и техника написания записки косвенно показали бы время подготовки и совершения убийства. Данная улика позволила бы внести ясность в вопрос о психическом состоянии А. Барюссо в момент преступления. Это тем более важно, что изначально подсудимая заявляла, что записка была написана З. Иноземцевой.
Между тем утрата записки могла быть частично компенсирована. Из протокола осмотра известно, что на журнальном столике находился блокнот [22, л. 14-15]. Без сомнения, его необходимо было изъять и подвергнуть тщательному осмотру. Если А. Барюс-со написала записку на месте преступления, можно было попытаться восстановить ее содержание. Если бы выяснилось, что текст не отпечатался на листах блокнота, то это дало бы основание предположить: записка была написана заранее и принесена с собой, что свидетельствовало бы в пользу версии о дан- ном убийстве как о заранее запланированном А. Барюссо преступлении.
Возможно, что это могла быть роковая ошибка А. Барюссо. Находясь в возбужденном состоянии перед тем, как сдаться полиции, она забыла проверить состояние оружия. В день убийства Анна могла прибыть в Ляхово с определенным умыслом совершить преступление. По пути в имение или в глубине усадебного парка у обвиняемой была возможность проверить револьвер, сделав пробный выстрел 1. В таком случае обнаружение в этой местности гильзы или пули, выпущенной из сданного в полицию револьвера, похоронили бы надежды А. Барюссо на оправдание, ведь это однозначно указывало бы на длительную подготовку к убийству. Обвиняемая могла забыть добавить в барабан револьвера еще один патрон, поэтому ей пришлось бы, например, объясняться посредством выдумки о том, что она почему-то всегда заряжала револьвер пятью патронами. Но, к ее удаче, на это никто не обратил внимания: пристав Добровольский, принявший у А. Барюссо повинную, показал в суде, что она находилась в подавленном состоянии, поэтому он не стал беспокоить ее подробными расспросами [8, с. 3], что следует расценивать как очевидную ошибку.
В своих показаниях Анна Барюссо упоминала, что интерес Евгения Измайлова к Анастасии Сафоновой был настолько необычным, что он подолгу смотрел на портрет очень похожей на нее женщины. В ситуации, когда защита пыталась сместить внимание присяжных на любовные отношения А. Барюссо и Е. Измайлова, не забывая попутно очернить убитую, упомянутый портрет должен был быть предъявлен присяжным. Он послужил бы важным эмоциональным контраргументом при восприятии событий, это можно было использовать для привлечения внимания к личности убитой.
Не имея достаточно твердой опоры на собранные улики, прокуратура пыталась строить обвинения на свидетельских показаниях, которые являлись противоречивыми и крайне ненадежными, и в итоге потерпела неудачу. Фактор ненадежности показаний был особенно важен в вопросе поведения убитой. Как отмечалось выше, часть свидетелей описывала ее как почти ребенка, а другая часть - как вполне созревшую молодую женщину, готовую к отношениям с мужчинами. Ненадежность свидетельских показаний присяжные заметили на примере свидетеля Волкова, который на самом суде давал совершенно разные показания, в зависимости от того, был трезв или пьян. Кроме того, в прениях товарищ прокурора Л. П. Олышев пытался прибегнуть к ярким метафорам: «Она совершила тяжкое и гнусное преступление, убив невинную спящую девочку и сама бежала. Подползла как змея, ужалила и уползла прочь» [10].
* * *
Итак, подводя итог нашим изысканиям, следует отметить, что «дело Анны Барюссо» можно считать типичным для дореволюционной судебной практики случаем оправдания подсудимого судом присяжных, несмотря на наличие весомых доказательств виновности. Провал позиции обвинения и причины вынесения оправдательного вердикта обусловлены целым рядом причин: присяжным не были предоставлены схемы преступления и фотографии места происшествия; в ходе следствия были утеряны важные улики; правоохранители по каким-то причинам отказались от баллистической экспертизы; защита избрала выигрышную стратегию защиты, смещавшую акценты с события преступления на взаимоотношения А. Барюссо и Е. Измайлова; позиция обвинения строилась почти исключительно на свидетельских показаниях; речь обвинителя отличалась неоправданной образностью; обвиняемая изначально соблюдала принцип последовательности как в своих показаниях, так и в общении со следствием.
Завершая исследование, необходимо отметить еще один аспект рассматриваемого сюжета, имеющий практическую значимость и способный во многом актуализировать историю забытого преступления. Дело в том, что она может быть использована в контексте представления помещичьего быта в музейном пространстве усадьбы начала XX в., а ошибки (утраченные улики, пропущенные детали осмотра места происшествия, нестыковки в показаниях), допущенные полицией при расследовании дела, задействованы при создании экскурсионных программ для дополнительного привлечения посетителей.
Кроме того, прошлое усадьбы Ляхово, в том числе рассмотренный нами криминальный сюжет, дает богатый материал для создания здесь музея дворянского быта, экспозиция которого может тематически охватывать как период XVIII в. (история графа Калиостро), так и события, происходившие здесь в начале XX столетия (время дворян Варгиных).
Посетителей в первую очередь привлекает история любви, показанная в телевизионном фильме, однако музей определенно может дать посетителям больше, знакомя с образом повседневности состоятельных русских людей XVIII–XIX вв. Любовная драма начала прошлого века, помимо бытописания барской усадьбы, позволяет раскрыть тематику расследования преступлений и суда присяжных в Российской империи на поздних этапах ее истории.
При разработке соответствующих материалов их авторам, безусловно, стоит учитывать моральный аспект - уважение к жертве преступления. В данном случае, с одной стороны, важно, что судом Анна Барюссо была оправдана, проведя в тюрьме под следствием и судом около 13 месяцев, а с другой - то, что убийство Анастасии Сафоновой осталась безнаказанным. Описание допущенных полицией ошибок дало бы возможность некоторым образом вовлечь посетителей в расследование преступления, а использование технологий дополненной реальности позволило бы воссоздавать как сцены фильма «Формула любви» и его съемочный процесс, так и ход расследования трагедии в Ляхово. Думается, что обоснование подобной музейно-экскурсионной концепции может стать темой для последующих научных изысканий.
Kirill E. RYBAK
Anna Barusseau’s Feral Formula of Love:
An Experiment in Scientific Reconstruction of a Trial from the Early 20th Century