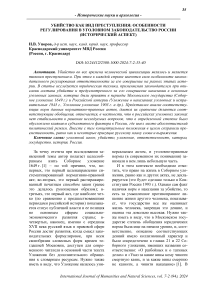Убийство как вид преступления: особенности регулирования в уголовном законодательство России (исторический аспект)
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7-2 (94), 2024 года.
Бесплатный доступ
Убийство во все времена человеческой цивилизации являлось и является тяжким преступлением. При этом в каждой стране имеются свои особенности законодательного регулирования ответственности за его совершение на разных этапах истории. В статье исследуется юридическая техника, применяемая законодателем при описании состава убийства и предусмотренного за его совершение наказания в основных уголовных законах, которые были приняты в периоды Московского государства (Соборное уложение 1649 г.) и Российской империи (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. и др.). Представлен анализ соответствующих норм данных нормативно-правовых актов, дается их сравнение делаются соответствующие обобщения, отмечается, в частности, что в российских уголовных законах нет стабильности в решении исследуемых вопросов, что в определенной степени было обусловлено влиянием субъективного фактора в России, где имел место абсолютистский политический режим. Вместе с тем концептуальные положения в целом сохранили преемственность, равно как и некоторые присущие русскому языку слова и выражения.
Уголовный закон, убийство, уложение, ответственность, каторга, государство, история, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170206059
IDR: 170206059 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-7-2-35-40
Текст научной статьи Убийство как вид преступления: особенности регулирования в уголовном законодательство России (исторический аспект)
За точку отсчета при исследовании заявленной темы автор полагает целесообразным взять Соборное уложение 1649 г. [1] - по той причине, что, во-первых, это первый целенаправленно систематизированный нормативно-правовой акт; во-вторых, это первый растиражированный печатным способом закон (ранее это делалось рукописным образом); в-третьих, это первый акт, где наиболее четко (по сравнению с предшествовавшими периодами российской истории) показывается статус публичной власти и ее позиция по основным сферам социальноэкономического развития страны; в-четвертых, наконец, именно с середины XVII века русский язык в правовой сфере России достиг развития, когда смысл законодательных формулировок, при всем своеобразии словесных форм времен тогдашней Московии, доступен для современного читателя в основной части текста Уложения без дополнительного обращения к словарным ресурсам. Нужно также иметь в виду, что Уложение являлось уни- версальным актом, и уголовно-правовые нормы (в современном их понимании) занимали в нем лишь небольшую часть.
И в этом контексте необходимо отметить, что право на жизнь в Соборном уложении, равно как и других актах, не декларируется (это будет сделано только в Конституции России 1993 г.). Однако сам факт наличия норм о наказании за убийство, то есть за умышленное противоправное лишение жизни другого человека, показывает, что государство все же оценивает жизнь человека, запрещая это деяние, и оценка эта довольно высокая. Нужно также иметь в виду, что в Московском государстве степень обобщения юридических норма была еще на низком уровне, и, соответственно, описание соответствующих деяний имело коллизионный характер и было сосредоточено в главах 21 и 22 Соборного уложения, имевших названия соответственно: «О разбойных и о татиных делах» и «Указ за какие вины кому чинити смертную казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» [1]. В этих главах дела об убийствах именуются как «убийственное дело», «душегубное дело», а само убийство именуется чаще всего как «убийство», «смертное убийство», «смертное убивство», «убойство», используются также выражения «убить до смерти», «убил до смерти», «убиет до-смерти», «убити», «кого убьет». При этом преступник-убийца именуется как «убой-ца», «душегубец», «кто убил». Самая общая норма об ответственности за убийство содержится в ст. 69 Главы 21, где, в частности, указывалось: «А где в городех и на посадех и по слободам и в уездах в волостях в селех и в деревнях учинится убой-ство смертное, а убьет до смерти боярской человек боярского же человека, и того убойцу пытати, которым обычаем убой-ство учинилося, умышленном ли, или пьяным делом, а не умышленном...» [1].
В этом законе Московского государства достаточно подробно формулируются санкции - в зависимости от формы вины (неумышленная или умышленная). Так, если убийство было неумышленное, то следовало «убойцу бив кнутом, и дати на чистую поруку з записью, что ему впредь так не воровати, и взяв по нем порука, вы-дати тому, у кого он человека убил, и з женою и з детьми в холопи, а жены и детей убитого человека у того боярина, у которого человека убили, не отъимати. А будет истец станет бити челом о долгу убитого, что он был должен, и в долгу отказа-ти» [1]. Санкции различаются также в зависимости от статуса преступника («боярский человек», «сын боярский», «помещик», «крестьянин» и т.д.), но в любом случае неумышленное убийство не влекло наказание в виде смертной казни. Если же убийство было умышленным, то в соответствии со ст. 72 Главы 21 Уложения следовало «такова убойцу самого казнити смертию» [1]. Такая же санкция предусматривалась в ст. 13 Главы 21, где указывалось: «А будет тать (то есть, вор в современном понимании этого термина (в понимании того времени «вор» - это лихой преступник). - Авт.) учинит и на первой татьбе убийство, и его казнить смертью» [1]. Такая формулировка - «казнить смертью» («смертию казнити») была ти- пичной при описании наказания за убийства разных видов.
Вместе с тем, в некоторых случаях используется более жесткая формулировка: «казнити смертию безо всякие пощады» -в случае, если «убийственое дело учинят люди или крестьяне без ведома бояр своих» (речь идет об убийстве разбойников, пойманных самими помещиками и его людьми, то есть, если пойманные не были «отдати в Губу» (не были сданы властям) и над ними был учинен самосуд (ст. 79, 80 Главы 21 Соборного уложения). В Главе 22 Соборного уложения включены нормы об убийстве конкретных лиц, и прежде всего речь идет о родственниках по линиям родители-дети, братья-сестры, жена-муж. Так, в ст. 1-3,7, 14 этой главы указывалось: «Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери … смертное убийство, и их за отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо всякия пощады … А будет которой сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство учинят с и(ы)ными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые с ними такое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады … А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то посадить в тюрму на год, а отсидев в тюрме год, приходити им к церкви Божии, и у церкви Божии обьявляти тот свой грех всем людем в слух. А смертию отца и матери за сына и за дочь не казнити … А будет кто убиет до смерти брата, или сестру сам, или по его велению, кто иной их убиет, а сыщется про то допряма, и их за то самих всех казнити смертию же … А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отравою, а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея такою казнею безо всякия пощады» [6]. Как видно, наказание за убийство родителями своих детей было значительно мягче, чем за убийство детьми своих родителей.
Обращает на себя также внимание то обстоятельство, что в отношении жены-мужеубийцы определён особый вид смертной казни. Эти и другие нормы отражали особенн ости семейных отношений в России того времени. В этой же главе
Уложения устанавливается наказание за организацию убийства (ст. 19): «А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а сыщется про то допря-ма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих казнити смертию же» [6]. В целом же язык Соборного уложения 1649 г. близок в древнерусскому языку. В дальнейшем это Уложение формально действовало (точнее – не было официально отменено) вплоть до систематизации российского законодательства и создания Свода законов Российской империи 1832 г. Однако с началом петровских времён ситуация стала меняться. Как известно, реформатор принудительно пытался внедрять опыт западноевропейских государств по многим направлениям государственной деятельности. Законотворчество не было исключением.
В сфере уголовного права основным актом в начале XVIII в. был Артикул воинский 1715 г. [2], нормы которого, несмотря на название, применялись и в невоенных делах. Этот закон показывает, что правовая культура в России несколько изменилась. Так, если Соборное уложение составлялось на основе обсуждения с участием представителей нескольких сословий, то Артикул воинский, будучи документом абсолютистской монархии, утверждался единолично Петром I, и, главное, имея в виду контекст нашей темы, изменился стиль описания законодательных норм, равно как и их структура и содержание, хотя, одновременно, по ряду формулировок Артикул воинский воспринял нормы Соборного уложения. Описание преступления и наказания за его совершение содержится к главе 19 – «О смертном убийстве». Так, согласно арт. 154: «Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного страху умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки отмстить, и без всякой милости оному голову отсечь» [2]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что эта норма, как и вообще большинство норм Артикула воинского, по своему описанию выдерживаются в едином стиле (для сравнения арт. 26: «Кто с сердцов и злости кого тро- стию или иным чем ударит и побьет, оный руки своея лишитца» [2]).
Это свидетельствовало о качественно новом уровне систематизации уголовного законодательства (равно и других отраслей права). Помимо этого, если иметь в виду убийство и наказание за него, сведен к минимуму набор терминов для обозначения соответствующих деяний и санкций. Так, убийство в именительном падеже обозначается в этом законе редко, при этом используются следующие варианты: «смертное убийство», «смертное убивство», «убивство». Но значительно чаще преступное деяние описывается следующим образом: «кто убьет», «кого убить», «убиты будут», «смертно убить», «убить смертно». Слова «душегубство», «душегуб» уже не используются. Преступник-убийца называется единообразно, и так же, как и сейчас – «убийца». Следующий крупнейший уголовный закон в истории российского права – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [3]. Этот акт являлся первым полномасштабным уголовным законом в российской истории, имеющим системность и структуру, которая по сути своей сохраняется до сих пор (выделенные общая и особенная части Уложения, определенная последовательность в этом акте объектов уголовно-правовой охраны, введение институтов соучастия, невменяемости, наличие достаточно четкой, хотя и очень сложной, системы наказаний и др.).
В этом Уложении 1845 г. сначала определяется ответственность за посягательство на религиозные ценности, затем безопасность правящих властных структур и в целом государства, интересы государственного управления в самых разных сферах деятельности госаппарата, и только потом закон регулировал защиту прав и свобод подданых – в разделе Х «О преступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц». Описание деяний в этом разделе относительно краткое. Убийство определяется единственным термином – «убийство» (этот термин сохраняется и в действующем УК РФ), что свидетельствует о привлечении к работе над текстом Уложения литературных ре- дакторов, отказавшихся от иных смежным с этим терминов. Так, в ст. 1920 диспозиция нормы, следующая: «За умышленное убийство отца или матери виновные подвергаются…»; ст. 1923: «Кто, с обдуманным заранее намерением или умыслом, убьет женщину беременную, зная, что она в сем положении, тот подвергается за сие…» [3].
Такого рода составов с уточнением лиц, преступным образом лишаемых жизни, в Уложении несколько. Наиболее общая норма об ответственности за убийство содержится в ст. 1925, где имеется следующая диспозиция: «Виновный в убийстве с обдуманным заранее намерением или умыслом, без тех особенных, увеличивающих вину его обстоятельств, которые означены в предшедших 1920, 1921, 1923 и 1924 статьях, подвергается…» [3]. Здесь в содержательном и лингвистическим плане наблюдается реанимация некоторых элементов Соборного уложения, то есть, отход от стилистики законодательного языка времен Петра I (выделение таких диспозиций, как убийство отца или матери, убийство женой своего мужа и мужем своей жены, убийство отцом своего сына или дочери, убийство родного брата или родной сестры, родного дяди или одной тети и т.д.), но с использованием более четких и стройных фразеологических оборотов, без труда понятных современному читателю. Еще одна особенность Уложения 1845 г. заключается в необычайно сложных по структуре, объемных и громоздких по описанию санкций за совершение преступлений, в том числе за убийство, с указанием множества смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и ссылок на статьи общей части Уложения, где определены принципы назначения наказаний (такой подход, очевидно, был обусловлен использованием той же методологии, что и при создании Свода законов Российской империи, над которым работал чиновный аппарат во главе с М.М. Сперанским, избравшим казуальный стиль описания правовых норм). Так, в указанной выше ст. 1925 Уложения предусмотрена следующая санкция: «…лишение всех прав состояния и ссылка в каторжную работу в рудниках на время от двенадцати до пятнадцати лет, а буде он по закону не изъят от наказаний телесных, и наказанию плетьми через палачей в мере, определенной статьею 21 сего Уложения для третьей степени наказаний сего рода, с наложением клейм. Если однако ж, убийство хотя и без тех увеличивающих вину обстоятельств, на которые указывается в статьях 1920-1924, учинено не одним лицом, а несколькими, по предварительному между ими на сие соглашению, то зачинщики, по лишению всех право состояния, приговариваются к ссылке в каторжную работу в рудниках на время от пятнадцати до двадцати лет; а буде они по законы не изъяты от наказаний телесных, то и к наказанию плетьми через палачей в мере, определенной статьею 21 сего Уложения для третьей степени наказаний сего рода, с наложением клейм» [3].
Конечно, такой подход законодателя к описанию наказания затруднял правоприменительную практику. Здесь же отметим, что наказание за убийство было значительно смягчено и за него не предусматривалась смертная казнь (исключение оставляли посягательства на персону императора и членов императорской семьи, но это было уже не общеуголовное, а государственное преступление). В последнем уголовном законе Российской империи - Уголовном уложении 1903 г. [4] законодатель предпочел вновь более краткий стиль изложения норм общей и особенной частей этого уголовного закона, на что, безусловно, повлияла немецкая правовая школа, соответственно рациональность немецкого права признавалась многими российскими криминалистами, а поскольку с конца XIX в. к разработке законопроектов стали целенаправленно привлекаться ученые-правоведы, то и тексты законов становились менее громоздкими и более системными (в частности, в Уложении 1903 г. были исключены, используя современную терминологию, нормы об административной ответственности, которые составлял едва не две трети Уложения 1845 г.).
Вероятно, к этому подтолкнули и запросы правоприменительной практики, где было востребованы более четкие и ла- пидарные нормативные положения. Но сама концепция закона, отражая уголовную политику, в своей основе оставалась прежней; были учтены также реалии того времени, связанные с повышенной ответственностью за противогосударственные действия революционно-террористического характера. О существенном изменении лингвистического стиля в описании правовых норм об ответственности за убийство свидетельствуют статьи Главы 22 – «О лишении жизни». Так, в ст. 453 указывается: «Виновный в убийстве наказывается: каторгою на срок не ниже восьми лет» [4]. Эта текст всей статьи, и его объем предельно краткий, во много раз меньше, чем приведенный выше текст общей нормы об ответственности за убийство в Уложении 1845 г. В таком стиле выдержаны все другие статьи данной главы Уголовного уложения 1903 г. Здесь уже четко соблюдается терминологическая точность, например, «убийство» не имеет никаких смежных терминов-аналогов, буквенное обозначение терминов также строго единообразное. По системному уровню и уровню языковых средств Уголовное уложение практи- чески не уступало и не уступает будущим уголовных кодексам РСФСР и нынешнему УК РФ.
Можно еще отметить, что самое жесткое наказание за убийство по Уложению 1903 г. заключалось в «каторге без срока» (убийство матери или законного отца, убийство главы иностранного государства и др.). Изложенное показывает, что правовая культура российского государства в части законотворчества, начиная с середины XVII в., имела в монархической России противоречивое развитие, что видно по выбору языковых средств при описании в законодательных актах преступлений в виде убийства и наказания за его совершение. В Соборном уложении 1649 г. заметно влияние древнерусского языка. В Артикуле воинском 1715 г. заимствован опыт законотворчества западноевропейских стран, соответственно статьи излагаются короче и более системно. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. наблюдается некоторый возврат к русскому языку допетровских времен. Однако в Уголовном уложении 1903 г. вновь доминирует европейская рациональность.
Список литературы Убийство как вид преступления: особенности регулирования в уголовном законодательство России (исторический аспект)
- Соборное уложение 1649 года: Текст. Комментарий / Редкол.: Буганов В.И., Ирошников М.П., Маньков А.Г., Панеях В.М. - Л.: Наука, 1987. - 448 c.
- Артикул воинский от 26.04.1715 г. // Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / Отв. ред. А.Г. Маньков. - М.: Юридическая литература, 1986. - С. 327-365.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15.08.1845 г. // Полное собрание законов Российской империи. - Собрание второе. - № 19283.
- Уголовное уложение от 22.03.1903 г. // Полное собрание законов Российской империи. - Собрание третье. - № 22704.