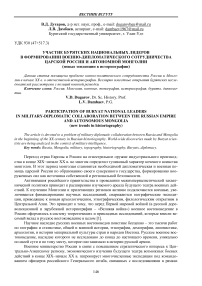Участие бурятских национальных лидеров в формировании военно-дипломатического сотрудничества царской России и автономной Монголии (новые тенденции в историографии)
Автор: Дугаров В.Д., Дамбаев Л.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (49), 2014 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме военно-политического сотрудничества России и Монголии в начале XX в. в отечественой историографии. Всемирно известные открытия бурятских исследователей рассмотрены с позиций военной разведки.
Россия, монголия, военные, топография, историография, буряты, дипломатия
Короткий адрес: https://sciup.org/142148183
IDR: 142148183 | УДК: 930
Текст научной статьи Участие бурятских национальных лидеров в формировании военно-дипломатического сотрудничества царской России и автономной Монголии (новые тенденции в историографии)
Переход стран Европы и России на огнестрельное оружие индустриального производства в конце XIX начале XX в. во многом определил тупиковый характер кочевого воинства монголов. В этот период монголам становится необходимой дипломатическая и военная помощь царской России по образованию своего суверенного государства, формированию вооруженных сил как источника собственной и региональной безопасности.
Активизация российского правительства в проведении межимпериалистической захватнической политики приводит к расширению изучаемого ареала будущего театра военных действий. К изучению Монголии и прилегающих регионов активно подключаются военные, увеличивается финансирование научных исследований, снаряжаются географические экспедиции, приводящие к новым археологическим, этнографическим, филологическим открытиям в Центральной Азии. Это приводит к тому, что перед Первой мировой войной (в русской дореволюционной и зарубежной историографии «Великая война») военное востоковедение в России оформилось в систему теоретических и прикладных исследований, которые внесли весомый вклад в русское востоковедение в целом [1].
Научное наследие русских военных востоковедов поистине бесценно – это тысячи работ по географии и статистике, общей и военной истории, этнографии, демографии, лингвистике, археологии, и истории материальной культуры стран и народов Востока. Русское военное востоковедение, наследие которого не исследовано до конца до настоящего времени, уникально по своей сути и по тому месту, которое оно занимало в истории русской армии.
Военное министерство России в связи с повышением стратегического интереса к Центрально-Азиатскому региону, экономического изучения будущего театра возможных боевых действий в конце XIX начале XX в. патронирует многочисленные экспедиции под командованием офицеров российского Генерального штаба, связанных с исследованиями в рамках
ВСОРГО, генерал-майора Н.М. Пржевальского, члена Госсовета России П.П. Семенова-Тяньшанского, генерал-майора Д.А. Певцова, полковника В.И. Роборовского, штаб-ротмистр Ч.Ч. Валиханова, генерал-майора российской армии и полковника РККА П.К. Козлова и др. Русским географическим обществом были организованы экспедиции под руководством выдающихся исследователей Центрально-азиатского региона Г.Н. Потанина, Д.А. Клеменца, В.А. Обручева, Г.Е. Грумм-Гржимайло, В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева и др. В этих экспедициях активное участие принимали исследователи-буряты Г.Ц. Цыбиков, Б.Б. Барадин, Ц.Б. Бадма-жапов, Б.Р. Рабданов и др. Характерным явлением было то, что в этих экспедициях активное участие в качестве переводчиков, проводников, помощников принимали буряты –казаки из состава Забайкальского казачьего войска.
Поистине незаменимым помощником в качестве переводчика и эксперта в многочисленных к тому времени экспедициях в Монголию русских ученых был Цокто Бадмажапович Бад-мажапов (1879-1937). Не получив специального образования, он в 1898 г. получил приглашение Русского географического общества войти в состав экспедиции П.К. Козлова. С этого момента начинается его дружба с великим путешественником, длившаяся до конца жизни Козлова, то есть до 1935 г.
Немногочисленна историография жизни и деятельности этого незаурядного человека, который был переводчиком в переговорах с монгольскими повстанцами во главе с Тогтохо-тайджи (из Южной Монголии) в 1910 г., в 1913 г. в составе монгольской делегации, возглавляемой Сайн-нойон-ханом Намнан-Сурэном, Ц. Бадмажапов в Санкт-Петербурге участвовал в переговорах с российскими министрами в качестве переводчика, был на Всемирной выставке в Париже, в 1913 г. вместе с хамбо-ламой бурятских дацанов Итыгиловым и другими буддийскими деятелями участвовал в торжествах в честь 300-летия царского дома Романовых, состоявшихся в столице Российской империи. Помимо работы П.К. Козлова «Монголия и Кам» (1905) и его «Избранных трудов», где часто встречается фамилия Ц. Бадмажапова, имеется обширная статья И.И. Ломакиной «Цогто Бадмажапов (Судьба первооткрывателя Хара-Хото) в альманахе «Orient» (1998), статья Ш.Б. Чимитдоржиева и Н.В. Ким «Цокто Бадмажапов» в сборнике «Выдающиеся бурятские деятели (XVII–начало XX в.), параграф «Цокто Бадмажа-пов и его дневник» в кандидатской диссертации Ж.А. Гармаева «Изучение истории и культуры Монголии и Тибета бурятскими учеными-путешественниками (конец XIX–начало XX в.) (2005) анализируется рукопись Ц. Бадмажапова «35-дневная поездка от резиденции князя Алашаня до ставки Торгут-бэйлэ» (1907)».
В 1990-х гг. бурятские ученые Ш.Б. Чимитдоржиев и Н.В. Ким выдвинули дискуссионную проблему, утверждая: «В нашем распоряжении имеется рукопись Цокто Бадмажапова под названием «35-дневная поездка князя Алашаня до ставки князя Торгут-бэйле (1907)». В ней содержатся подробные сведения о Хара-Хото, полученные им от жителей окрестностей этого мертвого города. А экспедиция П.К. Козлова направилась в Хара-Хото осенью 1908 г. Можно предполагать, что рукопись Бадмажапова с описанием Хара-Хото и фотографиями его развалин была представлена в распоряжение экспедиции Козлова (прямо в руки Козлова или через Географическое общество по официальным каналам). Мы убеждены в том, что, отправляясь в Хара-Хото, П.К. Козлов имел рукопись Бадмажапова на руках. Удивительно то, ни у Козлова, ни у других авторов, описавших Хара-Хото, не говорится об этой рукописи, об участии Ц. Бадмажапова в открытии этого исторического памятника… Мог точно описать эту дорогу человек, продолжительное время живший в этих краях и вошедший в доверие местного населения. Таким мог быть только Бадмажапов. На основании сказанного можно утверждать, что своевременная и точная информация Цокто Бадмажапова о Хара-Хото помогла российской науке открыть и исследовать этот уникальный памятник древностей в Центральной Азии» [2].
По замечанию исследователя-журналиста И.И. Ломакиной, «осенью 1907 г. в РГО пришел увесистый пакет с письмами вице-президенту РГО П.П. Семенову-Тян-Шанскому, П.К. Козлову с любительскими фотоснимками с описанием Хара-Хото. По приведенным фрагментам из сочинения Ц. Бадмажапова нетрудно понять, что это не случайное описание встретившихся работнику торговой фирмы, перегонявшему скот, любопытных развалин, а со- вершенно сознательно старательно произведенное описание остатков древнего города. С обмерами, с привлечением легенд, записанных со слов кочевников, с пониманием важности открытия для науки» [3].
В то же время приоритет же сведений о Хара-Хото литературным образом всецело принадлежит Г.Н. Потанину, который в свою очередь писал Ц. Бадмажапову: «…Со своей стороны я бы не советовал тебе ссориться с Географическим обществом. От этого косвенным образом может ослабеть к тебе отношение Министерства иностранных дел и Г.У.Г. Шу-а. Я хочу еще раз сказать тебе - обдумай хорошенько» [4]. Эта публикация ведущего монголоведа И.И. Ломакиной и архивный материал, представленный ею, значительно меняют картину о том, кто был первооткрывателем Хара-Хото.
Несомненно, изыскания Ц.Б. Бадмажапова внесли огромный вклад в эту проблематику, но следует учитывать тот научный порядок в археологической науке, по которому право первооткрывателя того или иного исторического объекта остается за руководителем экспедиции. Поэтому мы не знаем детально всех нюансов, по которым П.К. Козлов не включил в описание Хара-Хото как исторического объекта, фамилию и заслуги Ц.Б. Бадмажапова.
В то же время, если исходить из научной порядочности и элементарной исторической логики, можно сделать вывод о том, что бурят-хорунжий, несмотря на сохранившиеся хорошие отношения с руководителем экспедиций (П.К. Козловым) не мог в тех условиях конкурировать с полковником Генерального штаба Российской армии. К тому же П.К. Козлов считал себя самым известным после Н.М. Пржевальского ученым-путешественником-востоковедом, выполнявшим секретные разведывательные миссии высшего военного руководства России в Центрально-Азиатском регионе [5].
Одним из первых исследователей, посетивших по заданию Военного министерства под флагом РГО районы Центральной Азии, был Гомбожаб Цэбекович Цыбиков (1873-1930 гг.). Эта поездка была вызвана политическими расчетами российского правительства, связанными с нараставшими противоречиями России и Англии в Индии, Тибете и Китае. Англичане, служившие в Индии, активно занимались геодезической съемкой гималайских маршрутов, в том числе и Лхасы. Специально обученные индийцы и европейцы еще в начале XIX в., как известно, много раз безрезультатно пытались проникнуть в эту закрытую страну. Такая попытка удалась индийцу Сарат Чандра Дас, оставившему многочисленные работы, издавшему в 1902 г. большой, сохранивший свое значение до настоящего времени тибетско-английский словарь, в 1904 г. в русском переводе в Петербурге было издано его «Путешествие в Тибет».
Идея посылки бурята в Тибет с научными целями активно обсуждалась в научных кругах Петербурга еще в 80-х гг. XIX в. Отправившись с попутным караваном из Урги 25 ноября 1899 г. Г.Ц. Цыбиков 3 августа 1900 г. прибыл в Лхасу. Во время пребывания в тибетской столице (до 10 сентября 1901 г.) паломник-исследователь совершил поездки в крупнейшие монастыри - Галдан, Сэра, Брайбунг и Ташилхунго (резиденцию Панчэн-ламы около г. Шигатзе). Лишь 2 мая 1902 г. Г.Ц. Цыбиков вернулся в Кяхту. По итогам поездки были впервые опубликованы фотографические снимки природы, монастырей, быта жителей Тибета. Фотографирование в «закрытой» стране, караемое смертной казнью, явилось проявлением величайшего человеческого мужества, продемонстрированного Г.Ц. Цыбиковым. Это была блестяще проведенная экспедиция, имеющая военно-разведывательный характер, с тщательным картографированием, анализом экономического, политического, национального, религиозного состояния народов Центральной Азии, поставившая Г.Ц. Цыбикова в первые ряды мировых исследователей Центральной Азии.
Одиннадцать снимков о далекой и недоступной священной Лхасе, резиденции «живого» бога, Мекке ламаистов были отпечатаны в журнале Национального географического общества США «Нэшнл Джиографик», значительно увеличив тираж и предотвратив его от банкротства [5].
В востоковедной научной литературе мало известной остается деятельность ученого-путешественника Будды Рабдановича Рабданова (1853-1923). Первым из ученых, кто ввел в научный оборот дневники путешествия в Восточный Тибет и письма Б.Р. Рабданова, был
Р.Е. Пубаев [6]. В историографии бурятского ученого выделяют дневники исследователя: «Дневники путешествия Б.Р. Рабданова в Восточный Тибет это три маленькие тетради, из которых первые две названы «Путевыми заметками богомольца», а третья – «Год в Дацзянлу». Как отмечает Р.Е. Пубаев, пагинация во всех тетрадях архивная. Первая датирована 28 мая 1903 г, Ханькоу, вторая – 17 августа 1903 г., Дацзянлу, а третья – 15 декабря 1904 г., Ханькоу» [7]. До путешествия в Восточный Тибет Б.Р. Рабданов посетил Монголию, Китай, Англию, Францию. В Монголии он посетил монастырь Табын-богдо-сумэ, находящийся в средней части Большого Хингана. О незаурядных языковых способностях самобытного бурятского ученого мы можем судить по его профессиональной деятельности. Он владел китайским, тибетским, русским, английским и монгольским языками.
В 1892-1893 гг. Б. Рабданов участвовал в тибетской экспедиции известного исследователя Центральной Азии Г.Н. Потанина. По замечанию выдающегося исследователя Внутренней Азии В.А. Обручева, лично знавшего Б.Р. Рабданова, «в экспедиции Потанина он согласился принять участие в качестве переводчика без всякого вознаграждения, только ради того, чтобы познакомиться со страной, в которой господствующей религией является буддизм» [8].
Тесными были контакты Б.Р. Рабданова с выдающимся бурятско-российским и тибетским дипломатом, религиозным и политическим деятелем Агваном Доржиевым, с которым в 1893 г. он посетил Францию. Агван Доржиев считал, что в случае учреждения в 1898 г. русского консульства в Лхасе другие иностранные державы будут требовать такого же права и для себя, и в качестве альтернативы предлагал направить русского чиновника в Да-цзян-лу (небольшой населенный пункт в Тибете, находившийся на торговом пути между Тибетом и Китаем и связанный железной дорогой с Пекином. – Л . Д. ). В качестве такого чиновника Агван Доржиев рекомендует Будду Рабданова, принимавшего участие в экспедиции Г.Н. Потанина (1892-1893) и в 1893 г. побывавшего вместе с Агваном Доржиевым в Западной Европе [9]. За время пребывания в Тибете Рабдановым был собран обширный материал по истории, этнографии Центральной Азии, который еще ждет научной оценки [9].
-
3 августа 1904 г. Далай-лама XIII Тубдан-Чжамцо вместе со свитой в сопровождении Агвана Доржиева был вынужден покинуть Лхасу и направиться в Ургу. В этот период, можно сказать, Б.Р. Рабданов являлся связующим звеном между русским и тибетским правительствами. «Основная задача остается та же. Неизвестно, какое задание прибудет от наших русских....», писал он позже [10].
Бурятские ученые Г.Ц. Цыбиков, Ц.Ж. Жамцарано, Б.Б. Барадин, Э.-Д. Ринчино, Ц.Б. Бадмажапов, Б.Р. Рабданов и др., принявшие активное участие в рамках исследований ВСОРГО, при скрытом финансировании со стороны Генерального штаба Российской армии, во многом помогли дополнить географическую, экономическую, религиозную и социальную картину Центральной Азии. Бесспорно положительным явлением в рамках многочисленных экспедиций РГО было участие бурят – резервистов Забайкальского казачьего войска, служивших проводниками, переводчиками и пр. Деятельность этих ранее замалчиваемых исторических деятелей находит свое квалифицированное отражение в современной исторической науке.