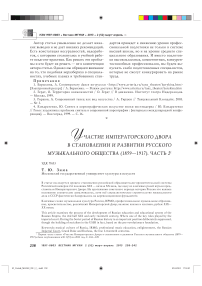Участие Императорского Двора в становлении и развитии русского музыкального общества (1859—1917). Часть 2
Автор: Зима Татьяна Юрьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 2 (52), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется процесс становления российской образовательно-просветительской системы Российской империи 2-й половины XIX — начала XX века, где одну из ключевых ролей играли представители Императорского Двора. На протяжении советского периода истории России это важное положение сознательно замалчивалось, хотя всё социалистическое строительство музыкального дела в СССР фактически базировалось на дореволюционном фундаменте.
Музыкальная культура России, ирмо, профессиональное музыкальное образование, просветительство, российский императорский двор, великие князья и княгини, рубеж хіх—хх веков
Короткий адрес: https://sciup.org/14489454
IDR: 14489454 | УДК: 78.03
Текст научной статьи Участие Императорского Двора в становлении и развитии русского музыкального общества (1859—1917). Часть 2
В каждом регионе России обязательно находился «свой Антон Рубинштейн», существовал свой «салон Виельгорских», то есть музыкальный кружок, рано или поздно преобразованный в Отделение ИРМО, имелись свои знаковые фигуры, оставившие заметный след в российской музыкальной культуре. Имена их не забыты (не только на местном уровне) и по сей день; в Астрахани , например, это Артур Иосифович Капп (ученик Н.А. Римского-Корсакова), судьба которого с 1904 по 1920 год была связана там с Музыкальным училищем РМО, в Киеве — это Александр Николаевич Виноградский , в Нижнем Новгороде — Василий Юльевич Виллуан (ученик Ф. Лауба), почти полвека отдавший нижегородскому РМО и его учебным заведениям, в Саратове — губернатор Михаил Николаевич Галкин-Враский и великолепный педагог-организатор Станислав Каспарович Экснер , более 30 лет беззаветно служивший на музыкально-образовательном поприще местного РМО, в Иркутске — Анатолий Юльевич Гинита-Пилсудский и Евгения Григорьевна Городецкая (оба — выпускники Петербургской консерватории в разные годы), в Томске — супруги К.И. и Г.С. Томашинские и коммивояжер А.А. Ауэрбах , в Баку — с 1905 года чета Доброхотовых — виолончелист Василий Степанович (директор Бакинского отделения РМО) и его жена, пианистка Елена Артемьевна, в Пермской губернии — подвижник А.Д. Городцов , в Воронеже — камергер С.М. Сомов и два его брата, в Омске — чета Л.С. и М.Ф. Буланже , в Ростове-на-Дону — Михаил Фабианович Гнесин и Матвей Леонтьевич Пресман (с 1900 года здесь бессменный директор Музыкального училища, окончивший в 1891-м Московскую консерваторию у В.И. Сафонова), а в Таганроге — целая династия, в ряду которой Ахиллес Николаевич Алфераки — городской голова и т.д., и т.д. [6]
Усилия всех приближенных ко Двору и радеющих за доброе дело на поприще музыкальной нивы принесли свои плоды — в учебные и концертные учреждения ИРМО по всей стране стали приезжать доморощенные педагоги и исполнители — выпускники столичных консерваторий с дипломами «свободного художника» [4]. Можно смело утверждать, что к концу ХIХ века в России образовался и занял прочное место в обществе совершенно новый класс — профессиональных музыкантов. Все они по-своему закладывали прочный фундамент музыкальнообразовательного здания своей страны, исполнительскую и композиторскую школу которой уже признала не только Европа, но и весь мир (особенно после гастролей в США П.И. Чайковского и А.Г. Рубинштейна).
Открытие провинциальных Отделений ИРМО и музыкальных учреждений при них повсюду становилось большим событием, причём не только местного значения. Представители Императорского Двора, «курировавшие» ИРМО всегда отзывались на них поздравлениями. Так, в 1893 году в начале февраля в Сибирь поступила поздравительная телеграмма [5, c. 237—238] по случаю открытия Музыкальных классов Томского отделения ИРМО (первых на этой обширнейшей от Урала до Тихого океана территории). Подписала телеграмму новая Председательница ИРМО вел. кн. Александра Иосифовна ( 1830—1911 ), супруга вел. кн. Константина Николаевича, ушедшего в 1892 году в мир иной…
Безусловно, подобное августейшее внимание льстило провинциальным музыкальным деятелям и стимулировало их к дальнейшей деятельности, а главное, утверждало в мысли о причастности к значительному общегосударственному делу, которому немало сил, времени и материальных средств отдает сам Императорский дом [2].
Утвержденная в 1892 году Председателем ИРМО Александра Иосифовна, по отзывам её современников, была ослепительно красива, умна и талантлива. Ей посвящали свои опусы Иоганн Штраус-сын и Антон Рубинштейн. Она прекрасно играла на фортепиано, любила музицировать (как и её муж) и пробовала свои силы в композиторской практике. Не случайно на
«испытании учащихся», для которого Александра Иосифовна любезно предоставила Мраморный дворец, среди исполняемых произведений Моцарта, Шопена, Рубинштейна, Чайковского, Баха прозвучали и два её сочинения.
Большое внимание великая княгиня Александра Иосифовна (как в свое время и вел. кн. Елена Павловна, и вдовствующая императрица Мария Федоровна, и др.), уделяла благотворительности, учредив стипендию своего имени для консерваторцев, оплачивала ежегодно дешевую столовую для учащихся и т.д. Занимаясь благотворительной деятельностью, августейшие жёны невольно принимали участие в осуществлении государственной социальной политики, выполняя как «подданные» империи свои «служебные» обязанности (гражданские функции). Вместе с тем они выступали проводниками православно-русских традиций попечительства о нуждающихся и в этом находили своеобразный способ самореализации, самовыражения себя как личности. В этой области наиболее ярко проявлялась социокультурная роль женщины1.
Действительно, более всего великая княгиня любила помогать. Поэтому, когда Антон Григорьевич обратился к ней, августейшей особе, с просьбой о помещении для консерватории, она приложила максимум усилий и вскоре сообщила, что «Государь Император, по её ходатайству» повелел передать консерватории здание Большого театра…
Проблема помещений, надо отметить особо, повсеместно была «вопросом вопросов». Отделения, располагавшие собственными площадями, конечно, оказывались в очень выигрышном положении и развивались куда успешнее.
Но таковых насчитывалось всего ничего — в Москве, в Воронеже, в Тифлисе, да еще невероятно повезло с этим саратовцам. Там многолетние хлопоты председательницы местного Отделения ИРМО
— супруги тогдашнего губернатора княгини Марии Алексеевны Мещерской, подкрепленные безвозмездными личными материальными вложениями в стройку князя Петра Михайловича Волконского (за что его позже избрали в «Почётные члены ИРМО»), увенчались открытием каменного здания с Большим концертным залом для Музыкального училища (впоследствии ставшим консерваторией). Красноречив и показателен состав присутствующих (помимо многочисленной публики) на торжественной церемонии (1902 году) по этому случаю: «… здесь собрались представители почти всех правительственных и общественных учреждений — член Государственного Совета, действительный тайный советник М.Н. Галкин-Враский, саратовский губернатор А.П. Энгельгардт, городской голова А.О. Немировский, прокурор Судебной Палаты А.А. Макаров, председатель Губернской Управы и др. Из музыкального мира прибыли в Саратов — директор Московской консерватории В.И. Сафонов, композитор А.С. Аренский, вице-председатель Московского отделения ИРМО С.П. Яковлев, секретарь Главной Дирекции ИРМО В.Э. Направник, а также коллеги — директор Тамбовского музыкального училища С.М. Стариков и инспектор того же Училища Э.К. Вебер, некогда работавший в Саратовском РМО директором и преподавателем, квартет герцога Мекленбург-Стрелицкого» [8]. Среди многочисленных поздравительных телеграмм (а их поступило более сорока), на церемонии зачитали полностью от княгини и князя Мещерских, от князей Михаила, Сергея и Петра Волконских, от Танеева, Игумнова, Пухальского, Есиповой, Ауэра, Шора и Отделений ИРМО (Петербургского, Московского Киевского, Харьковского, Пензенского, Казанского, только что открытого Самарского).
Однако подчёркнуто внимательного оглашения заслужил рескрипт, заканчивавшийся следующими словами: «…От имени Матушки и своего приношу всем лицам, потрудившимся в деле постройки, Нашу искреннюю при-
знательность и питаю уверенность, что новое обширное здание послужит к дальнейшему процветанiю саратовского Музыкального училища и всего музыкального дела в Россiи! КОНСТАНТИН » [8]. Вместе с поздравлением великий князь просил передать в дар волжанам свой портрет в изящной тёмно-красной рамке с золотой короной [8].
Личность Константина Константиновича Романова ( 1858—1915 ) чрезвычайно любопытна хотя бы уже тем, что на его стихи (знаменитый К.Р. — он!) писал романсы П.И. Чайковский, а в письме к Н.Ф. фон Мекк называл «симпатичным и очень музыкальным» [3]. Ему, сыну своих родителей — вел. кн. Константина Николаевича и вел. кн. Александры Иосифовны — сам Бог велел быть музыкально одарённым, а в ИРМО — занять должность вице-председателя своей Матушки, которая де-юре продолжала быть высочайшей покровительницей, а де-факто последние восемь лет жизни уже не покидала своего дворца, отойдя от активной деятельности, и в 1909 году передала правление Русским музыкальным обществом Елене Георгиевне Мекленбург-Стрелицкой (праправнучке Екатерины Великой по линии своей матери).
Принцесса Елена Георгиевна ( 1857—1936 ), в замужестве Саксен-Альтенбургская, с 1899 года состояла «Почётным членом ИРМО», а через десять лет стала его Председателем. Она тоже была удивительной женщиной, но уж с совсем непростой судьбой; на её век выпали и революция 1905 года, и Первая мировая война (с началом которой она приняла российское подданство и при этом всячески помогала русским военнопленным в Германии, устраивала концерты и базары в пользу раненых), и революции 1917 года, и расправа над царской семьёй, и, наконец, в 1922 году выезд за границу навсегда, где она, не сломленная невзгодами, создала Музыкальное общество, а в Париже вместе с Рахманиновым (некогда своим помощником по ИРМО) поддерживала Русскую консерваторию.
В годы своего расцвета Елена Георгиевна превратила Каменноостровский дворец (доставшийся ей по наследству) в один из центров музыкальной культуры Санкт-Петербурга, устраивала в нём концертные вечера, на которых нередко пела сама. Продолжая традицию своих предшественниц в плане благотворительности, учредила ряд стипендий консерваторцам и оплачивала поездки талантливых музыкантов на заграничные конкурсы.
За период председательства в Императорском русском музыкальном обществе Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской в России открылось три(!) консерватории, около десятка Отделений ИРМО (Владивостокское, Уфимское, Владимирское, Вятское и др.), не говоря уже об интенсивной концертно-гастрольной жизни не только российских столиц, но и самых далёких от них провинций. Запущенный в 1859 году «маховик» под названием «Русское музыкальное общество», заметно набрал оборотов, и отлично отлаженная с годами просветительско-образовательная система в начале ХХ века работала полным ходом. Но…
… в мае 1917 года Главная Дирекция ИРМО была вынуждена срочно созвать съезд музыкальных деятелей «в связи с произошедшими событиями и грядущими, возможно, изменениями в жизненном укладе империи» [7]. На этот призыв отозвалось более 50-ти(!) Отделений.
Вот какую мощную структуру удалось создать «царскому режиму» за шесть (без малого) десятилетий. И это крепко выстроенное здание не удалось разрушить ни Октябрьской социалистической революции, ни судьбоносным событиям «кипучей и могучей» страны начала 1990-х годов. До сего дня полтора десятка музыкальных училищ продолжают выпускать профессиональных музыкантов, чтя традиции, заложенные еще в эпоху реформ Александра II, а две старейшие консерватории только что отметили солидные юбилеи (третья — Московская — стоит на пороге своего 150-летия).
Весь ход истории доказывает простую истину — краху подвержены любые идеоло-

гические конструкции (самые, казалось бы, незыблемые и универсальные), рушатся монаршие дома и целые империи, но только Искусство — вечно, в том числе (а может, и в первую очередь) Музыка, вечную жизнь которой помогают поддерживать профессиональные музыканты и готовящие их специальные учебные заведения.