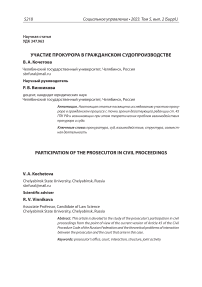УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Автор: Кочетова В. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 5, вып. 2S, 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена исследованию участию прокурора в гражданском процессе с точки зрения действующей редакции ст. 45 ГПК РФ и возникающих при этом теоретических проблем взаимодействия прокурора и суда.
Прокуратура, суд, взаимодействие, структура, совместная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14128217
IDR: 14128217 | УДК: 347.963
Текст статьи УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Принято считать, что нормы гражданского процессуального законодательства обладают высокой степенью правовой определенности. Публичный характер отношений между судом общей юрисдикции и другими участниками гражданского судопроизводства, конечной целью которых является защита нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан, организаций, публично-правовых образований, не предполагает свободы усмотрения суда в применении процессуальных норм.
Описание исследования
Процессуальные действия суда, совершаемые исключительно в рамках установленной гражданской процессуальной формы, в немалой степени обеспечивают принятие законного и обоснованного решения по делу. Изложенное предполагает повышенный уровень юридико-технических требований к нормам гражданского процессуального законодательства, содержание которых должно строго соответствовать задачам и принципам гражданского судопроизводства. Кроме того, при разработке новых правил поведения, нацеленных на правовую регламентацию процессуальных правоотношений, законодатель должен иметь совершенно точное представление об их месте и функциях в системе гражданского процессуального законодательства, а также о сложившейся в течение десятилетий практике применения судами норм, находящихся в системной связи с новыми правилами поведения.
К сожалению, подобный подход к формированию норм гражданского процессуального законодательства применяется далеко не всегда. Примером тому служит статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее— ГПК РФ), регламентирующая основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Необходимо отметить, что многие нормы ГПК РФ не претерпели значительных изменений по сравнению с ранее действовавшим кодексом. Законодатель, руководствуясь в том числе обозначенным подходом, сохранил в основе нового гражданского процессуального закона нормы, положительная практика применения которых сложилась за весь период действия Гражданского процессуального кодекса РСФСР2 (далее — ГПК РСФСР), однако применительно к участию прокурора в гражданском судопроизводстве от подобного подхода отказался и подверг соответствующие нормы значительной переработке. Как представляется, базовой идеей, лежащей в основе изменений, является сокращение оснований участия прокурора в процессе путем определения исчерпывающего перечня условий, при которых он вправе инициировать возбуждение гражданских дел или вступить в уже начавшийся процесс3.
Так, согласно части 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. С точки зрения юридической техники сама норма выглядит крайне неудачно. Законодатель умудрился, с одной стороны, максимально широко определить категории дел, которые вправе возбуждать прокурор. Однако при этом, с другой стороны, возможность реализации этого права поставил в зависимость от усмотрения суда. Единственным бесспорным основанием для возбуждения прокурором гражданского дела в интересах гражданина стала недееспособность последнего. Во всех остальных случаях прокурор обязан доказывать необходимость своего участия в процессе, в том числе представляя соответствующие доказательства, опираясь на неконкретные, не сформулированные в законодательстве (интересы неопределенного круга лиц, интересы публично-правовых образований) или сугубо оценочные (возраст, состояние здоровья, другие уважительные причины) понятия и категории. Практика применения части 1 статьи 45 ГПК РФ сразу обозначила недостатки, заложенные в конструкции данной нормы. Если прокурором, действующим в рамках полномочий, предоставленных ему Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в исковом заявлении неудачно сформулированы интересы неопределенного круга лиц или соответствующего публично-правового образования, в защиту которых он обращается, то суд с высокой степенью вероятности откажет ему в реализации этих полномочий. Законодатель попросту не учел тот факт, что обращение в суд является одной из наиболее эффективных мер реагирования прокурора на выявленные нарушения закона. Применительно к нарушениям прав граждан прокуратура традиционно обеспечивала судебную защиту наиболее важных прав прежде всего социально незащищенных слоев населения. Однако буквальное толкование соответствующих положений части 1 статьи 45 ГПК РФ, используемое большинством судов, существенно затруднило реализацию прокурорами своих полномочий, на что неоднократно обращалось внимание в научно-практических изда-ниях1. Изменения, частично устраняющие указанные ошибки, были приняты лишь спустя шесть лет после начала действия ГПК РФ2. При этом законодатель не только не отказался от действующей конструкции нормы, но и еще более ее усложнил, сформулировав исключение из общего правила.
Первоначальная редакция части 1 статьи 45 ГПК РФ дополнена еще одним предложением, согласно которому прокурор не доказывает невозможность самостоятельного обращения гражданина в суд при соблюдении двух условий.
Во-первых, заявлению прокурора в суд должно предшествовать обращение к нему гражданина о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов. Во-вторых, нарушенные (оспоренные) права, свободы, интересы должны быть связаны с определенными сферами отношений, перечень которых является исчерпывающим. При этом вновь используются не имеющие формального закрепления термины. Собственно социальной можно назвать только сферу социальной защиты и социального обеспечения. Однозначно определить именно социальные права в сферах трудовых (служебных) отношений, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; охраны здоровья, медицинской помощи; образования, обеспечения права на благоприятную окружающую среду не представляется возможным. Вызывает сомнение использование самого словосочетания «сфера отношений». Фактически речь идет о законодательстве, обеспечивающем реализацию соответствующих прав.
Таким образом, исходя из буквального толкования исследуемых положений, прокурор, чтобы избежать обязанности доказать невозможность самостоятельного обращения гражданина в суд, должен в своем заявлении обосновать социальный характер нарушенного права и его соответствие установленным в процессуальном законе сферам.
Еще больше вопросов вызывает действующая редакция части 3 статьи 45 ГПК РФ, регламентирующая так называемую «пассивную» форму участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Если применительно к первой, «активной», форме процессуальный статус прокурора определен в части 2 статьи 45 путем воспроизведения норм, существовавших и в ГПК РСФСР, то конструкция норм о вступлении в процесс по возбужденному делу претерпела значительные изменения. Необходимость таких изменений существовала со времени принятия Конституции Российской Федера-ции1 (далее — Конституция РФ), и Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-дерации»2 в новой редакции (далее — Закон о прокуратуре), в которых не предусмотрены надзорные функции прокуратуры за судебной деятельностью. На этом основании предлагалось даже упразднить эту форму участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Законодатель пошел по пути ее сохранения, однако по аналогии с частью 1 существенно сократил основания участия прокурора в процессе.
Так, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делу о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела.
Со времени начала действия ГПК РФ обозначилось несколько правоприменительных проблем, связанных, в том числе, с несоблюдением правил юридической техники, которое вызвало неоднозначное толкование данной нормы. ГПК РСФСР в статье 41 предусматривал несколько оснований для вступления прокурора в процесс. По собственной инициативе прокурор мог вступить в любое дело в интересах обеспечения законности. При этом по ряду категорий гражданских дел участие прокурора было обязательным (дела особого производства, об усыновлении, лишении родительских прав и т. д.). Прокурор также был обязан вступить в процесс по инициативе суда, который принял решение о необходимости его участия в конкретном деле.
Действующая же редакция части 3 статьи 45, в которой используются словосочетания, содержавшиеся в ГПК РСФСР применительно к вступлению прокурора в процесс по собственной инициативе, может быть истолкована двояко. Так, отказывая в удовлетворении заявления гражданина об оспаривании приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 декабря 2003 года № 51 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» в части абзацев третьего и четвертого пункта 4, устанавливающих условия реализации прокурорами полномочий, предоставленных ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации (далее — Верховный Суд РФ) указал следующее: «Часть 3 статьи 45 ГПК РФ, определяющая категории дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает заключение, не признает обязательным участие прокурора в этих делах». Напротив, эта норма прямо указывает на то, что неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела. Таким образом, федеральный законодатель не установил обязанности прокурора участвовать в рассмотрении каждого гражданского дела, по которому он наделен правом вступать в процесс и давать заключение. Прокурор может самостоятельно определять из указанных в части 3 статьи 45 ГПК РФ категорий гражданских дел те дела, в которых следует принять участие с учетом задач, возложенных на органы прокуратуры3.
С учетом такой позиции нижестоящие суды в отдельных субъектах Российской Федерации перестали извещать прокуроров о времени и месте судебного разбирательства не только по делам, указанным в части 3 статьи 45, но и по другим делам, обязательность участия прокурора в которых прямо предусмотрена ГПК РФ и другими федеральными законами. В результате отдельные суды субъектов Российской Федерации в связи с обращениями прокуроров вынуждены были обратить внимание нижестоящих судов, что ненадлежащее извещение прокурора о слушании дела, относящегося к категориям с обязательным участием прокурора, может являться основанием для отмены принятого судом решения в связи с нарушением требований части 3 статьи 45 ГПК РФ. Неявка прокурора не является препятствием к разбирательству дела только при условии его надлежащего извещения1. В то же время в случае заинтересованности суда в участии прокурора в конкретном деле он не имеет процессуальной возможности обязать к этому прокурора, поэтому в случае его неявки суд вынужден откладывать рассмотрение дела.
Казалось бы, расширение возможностей участия прокурора по защите прав граждан в порядке части 1 статьи 45 ГПК РФ предполагает предоставление ему права вступления в процесс в случаях, когда прокурор по различным причинам сам не обращается в суд с заявлением, а процесс инициируется самим гражданином на основе письменного ответа прокурора на его жалобу. Однако подобных изменений в часть 3 статьи 45 до сих пор не внесено. При этом нередко судьи районных судов для привлечения прокурора к участию в деле расширительно толкуют часть 1 статьи 45 и направляют в прокуратуры судебные повестки по делам, не предусмотренным частью 3 статьи 45 ГПК РФ.
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что ни Генеральная прокуратура РФ, ни Верховный Суд РФ, на которые возлагаются обязанности по реализации, в том числе новых норм ГПК РФ, фактически не участвовали в подготовке рассматриваемого законопроекта и его доработке. Очевидно, что разработчики не ставили перед собой цели устранения существующих недостатков правового регулирования участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Данные изменения в ГПК РФ прежде всего направлены на обеспечение эффективности реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах с использованием механизма, предусмотренного частью 3 статьи 45 ГПК РФ. Полномочия же прокурора как участника гражданского судопроизводства не расширены — увеличен лишь перечень гражданских дел, в которых он принимает участие. При этом решение вопроса о привлечении прокурора в процесс по новым категориям дел снова отдано исключительно на усмотрение суда. И по-прежнему не ясно: вправе ли прокуратура участвовать в рассмотрении этих дел или же обязана.
Возможно, новая часть 4 ст. 45 ГПК РФ является лишь данью унификации циви-листического процесса, в то время как основной задачей было внесение изменений именно в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации2.
Заключение
Подводя итог, следует сделать следующий вывод: прокурор, как представитель государства, в таких делах не может занимать позицию независимого арбитра, в интересах законности рекомендующего суду разрешить дело определенным образом. Он, как минимум, должен быть наделен правом участвовать в формировании предмета доказывания по делу, обязанностью доказывания обстоятельств, свидетельствующих о намерении сторон уклониться от соблюдения соответствующих обязанностей и процедур, мнимости или притворности сделок, на основании которых заявляются и признаются исковые требования. Заключение прокурора в качестве эффективного процессуального средства защиты интересов государства по таким делам представляется непригодным. Изложенное позволяет сделать вывод, что арбитражные суды, привлекавшие представителей прокуратуры в процесс до внесения изменений в соответствующий кодекс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, действовали вполне правомерно и разумно.
Между тем само по себе выделение прокурора из числа лиц, участвующих в деле, как представителя государства со специфическими процессуальными правами и обязанностями, отличными от других участников гражданского судопроизводства, потребует значительной переработки многих норм ГПК РФ, обеспечивающих прежде всего реализацию принципов состязательности и процессуального равенства сторон. Возможно, это потребует и существенных изменений Закона о прокуратуре в части порядка реализации отдельных надзорных полномочий. Столь глубокая модернизация гражданского процессуального законодательства, помимо особого юридико-технического подхода к созданию новых норм, требует и серьезного организационного взаимодействия в рамках подготовки соответствующего законопроекта между Генеральной прокуратурой РФ, профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, их правовыми службами и Верховным Судом РФ. Не случайно последний в соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции РФ наделен правом законодательной инициативы по вопросам своего ведения, а также разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам своего ведения.
Пока же правоприменители будут вынуждены формировать практику применения новых положений статьи 45 ГПК РФ и традиционно пытаться устранить наиболее серьезные упущения законодателя с помощью разъясняющих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также приказов Генеральной прокуратуры РФ.
Остается лишь надеяться, что даже сама возможность участия прокурора в рассмотрении соответствующих дел станет непреодолимым препятствием для использования недобросовестными лицами института судебной власти в противоправных целях.