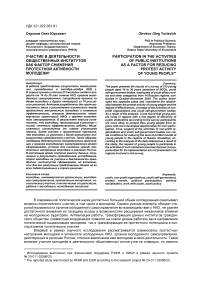Участие в деятельности общественных институтов как фактор снижения протестной активности молодежи
Автор: Отроков О.Ю.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены результаты анкетирования, проведенного в октябре-ноябре 2020 г. В опросе приняли участие 513 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (членов НКО, органов молодежного самоуправления, сотрудников органов по делам молодежи и других категорий) из 14 российских регионов. Автором разработаны два противоположных кейса и рассмотрена взаимосвязь между протестной активностью молодежи и степенью эффективности, охватом деятельности некоммерческих организаций (НКО) и органов молодежного самоуправления. В результате анализа установлено, что молодежь, проживающая в регионах с низкой степенью эффективности работы общественных институтов (по оценке участников опроса), более склонна к проявлениям протеста, чем молодежь из регионов с более развитыми возможностями гражданского участия. Таким образом, поддержка деятельности некоммерческих организаций и органов молодежного самоуправления может сформировать условия для снижения уровня протестных настроений молодежи в регионах России. В настоящее время согласно анализу данных, полученных в результате проведенного исследования, запрос молодежи на участие в деятельности гражданских институтов сформирован, но возможности для его реализации представлены далеко не во всех задействованных в опросе регионах.
Молодежь, некоммерческие организации, молодежное самоуправление, протестные настроения, политическое участие, политическая социализация, работа с молодежью, молодежная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149132602
IDR: 149132602 | УДК: 321.022-053.81 | DOI: 10.24158/pep.2021.1.3
Текст научной статьи Участие в деятельности общественных институтов как фактор снижения протестной активности молодежи
В современной политической науке достаточно большой объем исследований охватывает вопросы политического участия, в том числе и молодежи. Однако ученые-эксперты обходят стороной возможности органов молодежного самоуправления во взаимодействии с НКО, не уделяя достаточного внимания их текущему вкладу и возможностям расширения механизмов влияния на молодежную аудиторию. Активизация работы, трансформация данных институтов гражданского общества, совместная координация позволят на новом уровне работать как в направлении политической социализации молодежи, так и трансформации ее протестного потенциала в конструктивное политическое участие.
Впервые в рамках научного исследования рассматривается взаимосвязь протестных настроений молодежи и активности молодежных НКО, органов молодежного самоуправления, действующих в регионах России, степени вовлечения ими молодежи в свою деятельность. Такое влияние участия молодежи в деятельности общественных институтов не очевидно, но именно
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-32066\20.
∗∗ The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011-32066\20.
такие ожидания у общества и государства от их деятельности. Именно в этом направлении строится поддержка и вкладываются материальные и нематериальные ресурсы в их развитие.
В октябре–ноябре 2020 г. с использованием автоматизированной формы сбора ответов на платформе «Google Формы» было проведено анкетирование 513 молодых людей (что составляет 100 % в показателях опроса) в 14 субъектах Российской Федерации: Республиках Крым, Калмыкия, Мордовия; Ставропольском, Алтайском, Хабаровском краях; Новгородской, Омской, Брянской, Кировской, Амурской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях. Учитывая географию участников опроса, можно установить, что одни регионы относятся к политически стабильным, другие склонны к протесту [1]. Данный факт позволит рассмотреть различные практики и взгляд молодежи на происходящие процессы в регионах с различной протестной активностью. Целевая аудитория опроса – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые являются членами органов молодежного самоуправления или НКО, молодые депутаты либо организаторы работы с молодежью на различном уровне, а также организованно не участвующие в деятельности таких объединений.
Анкетирование проводилось анонимно с обязательным указанием возраста, региона проживания, масштаба населенного пункта и отношения к определенным общественным структурам. Анкета направлялась молодежи из числа целевой аудитории в различных регионах через НКО и органы молодежного самоуправления федерального и регионального уровней, различные каналы коммуникации, в том числе социальные сети. Методической основой опроса являлась анкета, которая включала 15 вопросов с возможностью выбора одного варианта ответа из предложенных, один вопрос с множественными вариантами ответа из предложенных и два вопроса с открытым ответом. Анкетированием охвачены следующие темы: участие в деятельности общественных объединений, органов молодежного самоуправления и оценка эффективности их работы; оценка степени протестных настроений в регионе; интерес в целом к политике; использование социальных сетей и других средств получения информации.
Результаты опроса представлены в виде двух противоположных кейсов. Первый кейс – работа НКО и молодежного самоуправления в регионах, где опрошенными отмечается высокий уровень политического протеста среди молодежи либо протестный потенциал; второй – в регионах, где протестный потенциал опрошенными не отмечается. Гипотеза автора заключается в том, что чем сильнее развита деятельность НКО и органов молодежного самоуправления (в части охвата, структуры, эффективности) в регионе, тем ниже протестные настроения у молодежи. Данная зависимость может показывать не только зависимость протеста и вовлеченности молодежи в общественные процессы, но и реальные практики, которые способствуют снижению протестных настроений через активизацию работы институтов гражданского участия молодежи.
Относительно местности проживания участники опроса представляли в основном небольшие сельские территории – 35,9 %, участников из крупных городов оказалось 29,8 %, небольших городов – 19,8 %, и крупных сельских территорий – 14,5 %. Большинство участников являлись студентами – 22,1 %, членами молодежных парламентов – 16 % и активистами, участниками проектов НКО – 15,3 %. Молодежь, которая не является членами каких-либо организаций, составила 35,9 % опрошенных. Остальные – участники различных органов молодежного самоуправления и НКО.
Результаты опроса показали, что из числа целевой аудитории совершенно не интересуется политикой лишь 7,6 %, в то время как 43,6 % в той или иной мере интересуются общественно-политической деятельностью, а 14,5 % заявили о личном участии в политической деятельности. Столь высокое значение тех, кто участвует в политической деятельности, можно связать с целевой аудиторией опроса. Представители НКО и органов молодежного самоуправления относят себя к политическим акторам больше, чем вся остальная молодежь. В опросе, проведенном фондом Фридриха Эберта в 2019 г., только 1 % молодежи заявили об участии в политике, еще 35 % в той или иной мере могли бы в ней участвовать, а остальные 64 % политической деятельностью не интересуются совершенно [2, с. 11]. Исследование государственного университета управления, проведенное в 2017 г., показало более высокие показатели: 3,9 % лично участвовали в политической деятельности, 65,4 % внимательно следили за информацией в сфере политики или интересовались ею от случая к случаю, а 30,7 % политикой не интересовались [3, с. 36]. Учитывая данные, можно сделать вывод о том, что количество членов НКО и молодежного самоуправления, считающих себя причастными к политической деятельности, почти в четыре раза выше, чем среди всей остальной молодежи. Данный вывод подтверждает роль этих институтов и их возможности, которые имеются уже в настоящее время. По сравнению со всеми другими формами политического участия молодежи они абсолютно лидируют, так как могут предоставить возможность не только участия в политике, но и проведения социальных мероприятий, волонтерской деятельности и широкий спектр других направлений.
Лишь 10,7 % опрошенных считают, что молодежь активно участвует в протестных акциях, а 20,6 % напротив заявляют о полном неучастии в протестном движении. При этом поддерживают проведение митингов, демонстраций, пикетов 25,9 % опрошенных, а 2,3 % из них принимали личное участие в их проведении. Разделилось мнение респондентов и о будущем протестного движения в России: 34,4 % опрошенных считают маловероятным массовые протестные акции, а 23,7 % наоборот утверждают, что протестный потенциал молодежи растет. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос. Проведенное в 2017 г. центром экономических и политических реформ исследование продемонстрировало достаточно высокий уровень общественной активности, причем доля тех, кто имеет опыт участия в политическом протесте, приближается к 15 %. В совокупности почти 40 % опрошенных выразили готовность поддержать протест против власти [4]. При этом последнее исследование Левада-центра показало, что по сравнению со старшим поколением молодые вдвое реже следят за политическими новостями и обсуждают политические вопросы с друзьями и знакомыми, в три раза реже ходят на выборы [5].
Этот блок исследования показывает неоднородность представлений молодежи о политических протестах и отношения к участию в них. С одной стороны, высока доля тех, кто считает незначительным число участников протестного движения среди молодежи, с другой, рост протестного потенциала отмечает почти четверть опрошенных, что меньше показателей, полученных несколькими годами ранее. В рамках данного исследования 35,9 % опрошенных считают, что протестные акции в их регионе возможны, и лишь 6,9 % совершенно исключают такой сценарий.
Среди тех, кто считает, что популярность акций протеста будет нарастать и протестные движения в регионе возможны, 76,2 % отмечают, что в регионе не достаточное количество НКО. В числе представителей данной позиции абсолютное большинство следит за информацией на политические темы, но лишь 29 % лично участвовали в различных мероприятиях подобной тематики, при этом все их в разной степени поддерживают. Также 52,38 % этой категории опрошенных считают, что органы молодежного самоуправления и НКО смогут создать условия для политической деятельности молодежи, при этом остальные 47,62 % имеют диаметрально противоположное мнение. Большинство респондентов из представленных в этом блоке проживают в Омской, Кировской, Амурской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия, незначительно представлена Республика Крым.
Из числа респондентов, придерживающихся позиции отсутствия какой-либо протестной активности молодежи, 41 % считают достаточным количество НКО в регионе. Более 65 % из них оценивают работу таких организаций как эффективную и полезную. Примерно такая же картина и по органам молодежного самоуправления: 81 % из этой категории респондентов считают, что органы молодежного самоуправления и НКО смогут создать условия для политической деятельности молодежи. География регионов включает Ростовскую область, Республику Крым, Алтайский край, Воронежскую область.
Членами политических партий или организации уже являлись 2,4 % опрошенных, 22,2 % хотели бы включиться в эту деятельность, остальные не определились либо не имеют желания. При этом участие в работе молодежного самоуправления и НКО 17,6 % опрошенных считают наиболее актуальной формой политического участия, что практически сравнивает этот показатель с участием в митингах, пикетах и шествиях – 19,8 %. При этом 33,6 % опрошенных считают недостаточным количество НКО, а более 76 % относят работу НКО к разряду слабоэффективной. Органы молодежного самоуправления считают неэффективными почти 69 % опрошенных, причем 6,9 % о них вообще ничего не слышали, а 43,5 % принимали участие в мероприятиях либо соприкасались с их деятельностью.
Анализ кейсов показал, что гипотеза исследования подтверждается и в регионах, где молодежью протестная активность оценивается как высокая, действительно деятельность НКО и молодежного самоуправления недостаточно эффективна. Обратная ситуация в регионах, где молодежь оценивает их работу более высоко. Причем значение показателей отличаются значительно (более чем на 17 %). В регионах с высоким уровнем протеста достаточное количество НКО отмечают 24 % опрошенных, а с низким уровнем протеста – 41 %. Примерно в таком же соотношении меняется и оценка эффективности, а оценка потенциала в регионах с высоким ожиданием протеста гораздо выше, чем в стабильных.
Данные исследования показывают явное желание молодежи более активно участвовать в деятельности НКО и молодежного самоуправления, но условия для этого в настоящее время не сложились. Те, кто каким-то образом соприкасался с работой таких структур, считают их достаточно эффективными и видит в них возможности для политической деятельности. Все это актуализирует тему совершенствования механизмов работы молодежных общественных структур, расширяет их поддержку и массовое вовлечение в их деятельность молодежи.
В настоящее время в рамках рассмотрения проекта федерального закона «О молодежной политике Российской Федерации», который принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении [6], Правительством Российской Федерации и регионами предлагается отдельно закрепить статус, структуру органов молодежного самоуправления, что создаст дополнительные возможности и условия для их развития на всех уровнях, охвата большего количества молодежи в рамках своей деятельности. Требуется и совершенствование подходов в поддержке НКО, объединении ресурсов с молодежным самоуправлением, что в конечном итоге позволит вовлекать молодежь в позитивные социальные практики, создавать условия для политической социализации и будет способствовать снижению протестного потенциала молодых людей.
Ссылки:
-
1. Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 г. [Электронный ресурс] // Regnum. URL: https://reg-num.ru/news/polit/2568900.html (дата обращения: 02.12.2020).
-
2. Российское «Поколение Z»: установки и ценности // Friedrich-Ebert-Stiftung. URL: https://www.fes-russia.org/pokolenie-z/ (дата обращения: 09.11.2020 г.).
-
3. Бегичева О.Л. Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодежной политики: результаты исследования : монография / О.Л. Бегичева, С.А. Гришаева, М.Б. Поляков, А.Н. Тимохович, С.В. Чуев. М., 2017. 131 с.
-
4. Молодежный протест: причины и потенциал [Электронный ресурс] // Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР). URL: http://cepr.su/2017/05/18/российская-молодежь/ (дата обращения: 30.11.2020).
-
5. Там же.
-
6. О молодежной политике в Российской Федерации : проект Федерального закона [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7 (дата обращения: 01.12.2020).
Редактор: Грицай Екатерина Анатольевна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Участие в деятельности общественных институтов как фактор снижения протестной активности молодежи
- Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 г. [Электронный ресурс] // Regnum. URL: https://regnum.ru/news/polit/2568900.html (дата обращения: 02.12.2020).
- Российское "Поколение Z": установки и ценности // Friedrich-Ebert-Stiftung. URL: https://www.fesrussia.org/pokolenie-z/ (дата обращения: 09.11.2020 г.).
- Бегичева О.Л. Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодежной политики: результаты исследования: монография / О.Л. Бегичева, С.А. Гришаева, М.Б. Поляков, А.Н. Тимохович, С.В. Чуев. М., 2017. 131 с.
- Молодежный протест: причины и потенциал [Электронный ресурс] // Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР). URL: http://cepr.su/2017/05/18/российская-молодежь/ (дата обращения: 30.11.2020).
- О молодежной политике в Российской Федерации: проект Федерального закона [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7 (дата обращения: 01.12.2020).