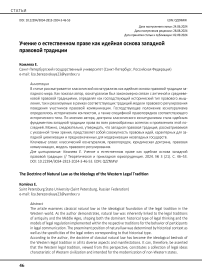Учение о естественном праве как идейная основа западной правовой традиции
Автор: Комлева Е.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (21), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается классический юснатурализм как идейная основа правовой традиции западного мира. Как показал автор, юснатурализм был закономерно связан с античной и средневековой правовой традициями, определяя как господствующий исторический тип правового мышления, так и реализуемые в рамках соответствующих традиций модели правового регулирования поведения участников правовой коммуникации. Господствующее положение юснатурализма определялось историческим контекстом, а также спецификой правопорядков соответствующего исторического типа. По мнению автора, доктрина классического юснатурализма стала идейным фундаментом западной традиции права во всех разнообразных аспектах и проявлениях этой последней. Можно, следовательно, утверждать, что западная правовая традиция, рассматриваемая с указанной точки зрения, представляет собой совокупность правовых идей, характерных для западной цивилизации и предназначенных для модернизации незападных государств.
Классический юснатурализм, правопорядок, юридическая доктрина, правовая коммуникация, модель правового регулирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14131122
IDR: 14131122 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-3-46-53
Текст научной статьи Учение о естественном праве как идейная основа западной правовой традиции
Современная юридическая наука, подобно всем другим гуманитарным наукам, находится в условиях смены парадигм, предполагающей радикальное обновление не только предметного поля познания и его проблематики, обусловленное появлением новых реалий, неизбежно входящих в поле зрения исследователей, но и правовой методологии, а также категориального аппарата, системы основных понятий, существенно отличающихся от тех, которыми оперировала юриспруденция XIX–XX вв.1 Таким образом, можно вести речь о формировании новой картины правовой реальности, ставшем неизбежным следствием того идейного кризиса, в котором несколько десятилетий назад находились все юридические науки2.
В частности, переосмыслению подверглись представления о понятии права, его природе, сущности, предпосылках возникновения и основных законах развития, что повлекло за собой смещение центра внимания с абстрактной «системы», имеющей якобы универсальный характер и не зависящей от конкретных исторических условий, на многомерный и разнонаправленный процесс развития правопоряд-ков, общие рамки которого формируются в цивилизационном контексте, оказывающем определяющее влияние на порядок правовой коммуникации членов сообщества, их представления о праве, а также на способы регулирования общественных отношений, используемые в том или ином обществе, стоящем на той или иной ступени развития.
Так, применительно ко многим правопорядкам прошлого представляется некорректным выделять такие признаки, как нормативность и системность. Дело в том, что сами эти категории, имеющие высокую степень абстрактности и общезначимости, предполагают высокий уровень типизации регулируемых отношений, что, в свою очередь, требует соответствующего уровня развития юридического мышления, присущего далеко не всем правопорядкам3. Неслучайно материальные и духовные предпосылки регулирования посредством норм окончательно сложились (причем не везде, а в наиболее продвинутых на тот момент правопорядках) в XVI–XVII вв., когда западный мир и, соответственно, западная правовая традиция вошли в эпоху научной и технической революций, стимулированных открытиями в сфере точных наук.
Именно по аналогии с взаимодействиями, рассматривавшимися в рамках ньютоновской классической механики, конструировалась модель правового регулирования, ставшая естественной для западного мира эпохи модерна. Данная модель представляет собой многоуровневую вертикальную иерархию, включающую: 1) принципы права, представляющие собой руководящие начала регулирования, выводимые из наблюдений основных закономерностей жизни общества, государства и права; 2) нормы права, имеющие характер общеобязательных, формально определенных правил поведения, установленных или санкционированных государством; 3) правоотношения, то есть урегулированные нормами права общественные отношения, имеющие типичный характер для правопорядка4.
Таким образом, общая модель правового регулирования, сохраняющая свое значение и в условиях перехода от модерна к постмодерну, выглядит как воздействие норм на фактические общественные отношения путем наделения их участников субъективными правами и обязанностями, выступающими производными результатами нормативного регулирования. Причем источником регулирования выступает, как легко убедиться, воля государства (resp. законодателя), занявшего в данной схеме то место, которое божественная воля или вечные и неизменные законы природы занимали в традиционных правопоряд-ках доиндустриальной эпохи. Исходя из этого формируется правопонимание, отражающее сущностные характеристики рассмотренной модели регулирования и выступающее идейной основой последней в правовых традициях современности, а именно юспозитивистское, или нормативистское, правопони-мание, явно или неявно определяющее правовое мышление современного человека.
В отличие от современных правовых систем правопорядки прошлого не включали в себя развитой нормативной составляющей, основными элементами их структуры являлись юридические факты и правовые отношения, то есть, прежде всего, субъективные права и обязанности индивидов. Данное обстоятельство отмечал в свое время известный советский правовед Е. Б. Пашуканис, полагавший, что даже в современных правовых традициях не нормы, а именно правоотношения являются первичной клеткой правовой материи. С еще большим на то основанием сказанное относится к правовым традициям древности и Средних веков.
Для них была характерна своего рода «горизонтальная» модель правового регулирования, или регулирования посредством соглашений, устанавливавших субъективные права и обязанности участников. Эти субъективные права и обязанности лишь с течением длительного времени трансформируются в нормы, создаваемые в порядке доктринального или судебного правотворчества1. Развивая данную мысль, ученый писал, что норма права «представляет собой только симптом, по которому можно судить с некоторой долей вероятности о возникновении в ближайшем будущем соответствующих отношений. Но для того чтобы утверждать объективное существование права, нужно знать, осуществляется ли это нормативное содержание в жизни, те есть в социальных отношениях»2.
Этой модели регулирования соответствовал известный уровень развития правового мышления и правовой культуры, оперировавший в плане формально-логическом не столько абстрактными общими категориями, сколько конкретными казусами, связанными между собой не причинно-следственными связями, а свободными ассоциациями, подобными тем, которыми и в современной культуре связываются между собой художественные, в частности поэтические, образы3. Впрочем, говоря об уровне развития, следует специально оговориться, что речь не идет о том, что правовое мышление и правопони-мание, лежащие в основе правовых традиций доиндустриальных эпох, являлись менее развитыми или более отсталыми, чем современный тип правового мышления и правопонимания.
Такие ошибочные суждения, распространенные в науке прошлого и позапрошлого столетий с ее европоцентристской установкой, уже получили надлежащую оценку в современной литературе. Скорее следует говорить об исторической специфике, вполне адекватной тому общему социокультурному контексту, в рамках которого складывались эти правовые традиции. Хорошую иллюстрацию данной мысли приводит Г. Бейтсон, утверждавший, что культуры, в рамках которых господствовало представление, будто инфекционные заболевания передаются злыми духами, при прочих равных условиях, ничуть не менее эффективны в плане лечения этих заболеваний, чем культуры, убежденные в том, что такие заболевания распространяются бактериями и вирусами4. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что римский врач Гален, руководствовавшийся в своих общенаучных представлениях философскими воззрениями Аристотеля, вплоть до XVII в. оставался практически непревзойденным медиком и диагностом, определившим развитие медицины на многие столетия вперед.
Точно так же правовое мышление доиндустриальных эпох, оперировавшее главным образом единичными атомарными фактами, было не менее адекватно модели регулирования поведения субъектов, чем правовое мышление, ориентированное на нормативную структуру права. Это связано с тем, что не только само регулирование, но и его предмет, а именно человеческое поведение, имеет свою культурно-историческую специфику, предполагающую для разных эпох различные модели регулирования.
Не углубляясь в рассмотрение данной проблемы, далеко выходящее за рамки настоящей работы, попробуем предположить, что поведение членов любого аграрного общества во многом имело аффективный и ценностно-рациональный характер (в том смысле, который вкладывался в данные понятия М. Вебером), существенно отличающийся от целерационального поведения, преобладающего в индустриальных и постиндустриальных обществах эпохи модерна1.
На весьма специфическую рациональность поведения членов традиционных аграрных обществ указывал и М. А. Рейснер, по словам которого в его основе «лежало не только рациональное, но весьма трезвое юридическое мышление, которое стремилось свести к математическому уровню тот или иной имущественный спор, так что и с этой стороны не было недостатков в практике рационального мышления, выработанного самой практикой хозяйственного оборота. Таким образом, уже одно крестьянское и огородное хозяйство Востока дает достаточно данных для образования наряду с мистическими и весьма рациональных построений»2.
Рациональность правового мышления, формируемого в рамках правовых традиций доиндустриаль-ных (докапиталистических) обществ и, в первую очередь, западной правовой традиции, обеспечивалась влиянием, оказываемым на него тем правопониманием, которое было характерно и, более того, единственно возможно для правовых традиций данного исторического типа, а именно учением о естественном праве, или юснатуралистическим правопониманием. Последнее было столь же, если можно так выразиться, «органически» присуще доиндустриальным правовым традициям, насколько юспозитивизм присущ правовым традициям эпохи модерна. Указанное обстоятельство позволяет нам сделать вывод о том, что именно юснатуралистическое правопонимание являлось идейной основой указанных правовых традиций, определяющим образом влиявшей на реализацию специфической для них модели правового регулирования, о которой шла речь ранее.
Значение юснатурализма как идейной основы предопределялось некоторыми характерными чертами, присущими правопорядкам Древнего мира и Средних веков, а именно:1)их горизонтальной структурой, резко отличающейся от вертикальной системной организации современных правовых систем; 2)специфической рациональностью поведения участников правовой коммуникации;3)дефицитом нормативной составляющей, делавшим правовое регулирование ориентированным не столько на типичные отношения, регулярно воспроизводимые с участием неограниченного круга лиц, сколько на конкретные факты (казусы) и на конкретных субъектов.
Юснатурализм, с одной стороны, был необходимо связан с указанными особенностями, с другой — нивелировал их в интересах более эффективного правового регулирования. Так, представление о вечных и неизменных законах Вселенной, установленных божественной волей, как нельзя лучше соответствовало типу правового мышления доиндустриальной эпохи, сочетавшему в себе ассоциативно-образные и понятийные элементы. Одновременно сами эти вечные и неизменные законы, эксплицированные в актах законодательства, судебных решениях и сочинениях юристов, выполняли роль общих принципов правового регулирования, оказывая непосредственное воздействие на поведение участников правовой коммуникации.
Юснатурализм, тем или иным образом проявлявший себя в различных цивилизационных контек-стах3, по вполне понятным причинам наиболее полно и всесторонне реализовался в рамках западной правовой традиции1. Уже в античном мире учение о естественном праве имело своей целью познание вечных и неизменных природных законов, которые, определяя поведение человека как существа, обладающего свободной волей, призваны выступать основополагающими принципами нормативного регулирования в обществе.
В истории западной политико-правовой мысли учение о естественном праве претерпело известную эволюцию, пройдя в своем развитии несколько основных этапов, причем каждый из этих этапов знаменовал собой новый этап в правовой традиции или даже новую правовую традицию2. Можно говорить как минимум о трех исторических типах юснатурализма, а именно об античном юснатурализме, получившем наиболее полную и всестороннюю разработку в сочинениях Аристотеля, стоиков и Цицерона, средневековом юснатурализме, в развитие которого внесли глубокий вклад Иероним, Августин Блаженный и Фома Аквинский, и о юснатурализме раннего Нового времени, яркими представителями которого выступали Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.
В античном юснатурализме слабо проявлялись религиозные идеи, что могло быть связано с острым противоборством религиозно-мифологического мышления, имевшего ассоциативно-образный характер, с мышлением философским, являвшимся понятийным по преимуществу. Роль божественной воли выполняли у античных мыслителей природная справедливость (Аристотель, римские юристы) или естественный разум (стоики, Цицерон). Тем самым античный юснатурализм не только заложил основы представлений о естественном праве, сохранившиеся в наши дни, но и послужил мощным катализатором для формирования научной рациональности в том ее значении, которое было релевантно для соответствующих исторического и социокультурного контекстов3.
Средневековый юснатурализм видел основной источник вечных и неизменных законов в божественной воле, которая посредством этих законов оказывает регулирующее воздействие на человеческое поведение, тем самым выступая источником действующего (позитивного) права и правового регулирования. Признавая детерминирующее значение божественной воли в человеческих делах, средневековые мыслители-богословы одновременно не отрицали и значения человеческой свободной воли.
Это позволило им решить проблему ответственности за преступления, совершаемые людьми, являвшуюся неразрешимой для стоиков. Так, по мнению Фомы Аквинского: «Смысл естественного закона для человека как особого существа, одаренного богом душой и разумом (порожденным естественным светом разумения и познания), состоит в том, что человек по самой своей природе наделен способностью различать добро и зло, причастен к добру и склонен к действиям и поступкам свободной воли, направленной к осуществлению добра как цели»4.
Наконец, учения о естественном праве раннего Нового времени, складывавшиеся в активном противоборстве со средневековыми доктринами, трактовали естественные законы как эмпирически наблюдаемые физические законы, аналогичные, например, законам классической механики. И подобно тому как физические взаимодействия могут быть описаны языком математики, взаимодействия в социальном мире также получают свое внешнее выражение и закрепление в актах позитивного права. В связи с этим следует возразить тем исследователям, которые полагают, будто юснатурализм Нового времени непременно включал в себя либеральную идеологию. В действительности из различных его версий могли следовать и либеральные (Гроций, Локк, Монтескье, Кондорсе и др.), и авторитарно-монархические (Гоббс), и радикально-демократические (Руссо) выводы.
По мере развития идей юснатурализма представление об универсальном «вселенском законе», реализуемом в поведении индивидов, легло в основу признания (уже в эпоху буржуазных революций XVII–XVIII вв.) комплекса естественных и неотчуждаемых прав и свобод, принадлежащих от рождения любому человеку (прежде всего, права на жизнь, достоинство, свободу, собственность, убеждения и веру). В своем наиболее полном виде концепция классического юснатурализма была представлена в сочинении Г. Гроция «Три книги о праве войны и мира»1.
Г. Гроций, руководствуясь воззрениями античных и средневековых авторов о естественном праве и естественном законе, трансформировал эти представления в соответствии с появившейся в эпоху Нового времени потребностью в создании системы конституционных гарантий свободы личности, ее основных субъективных прав. Эти неотъемлемые и неотчуждаемые основные права должны были служить фундаментом для всех отраслей позитивного законодательства в правовом демократическом государстве.
Учение юснатурализма, видоизменяясь под влиянием целого ряда социальных, политических и идейных факторов, стало мощной движущей силой развития правопорядков западного мира — начиная от законодательств древнегреческих полисов и римского права и заканчивая правовыми системами современности, нормативную основу которых образуют конституционные права и свободы человека и гражданина2. Несмотря на динамический потенциал, присущий классическому юснатура-лизму, и на его способность видоизменяться, актуализироваться в различные эпохи, можно говорить и об устойчивости смысловых интенций, изначально присущих учению о естественном праве.
Как подчеркивают Д. И. Луковская и И. Б. Ломакина: «Противопоставление естественного права позитивному и моральная составляющая трансцендентных ценностей, имманентно присущих нормам естественного права, стали нарративом юснатурализма. Вневременной и внеконтекстуальный характер норм естественного права обусловили определенность самого естественного права и знания о нем»3. Способность юснатурализма к развитию, а также преемственность различных концепций в рамках единого правопонимания были обусловлены наличием неизменного идейного ядра, характерного для всех учений о естественном праве — от античности до эпохи раннего модерна.
Отмеченные особенности позволяют сделать вывод о том, что именно доктрина классического юсна-турализма стала идейным фундаментом западной традиции права во всех разнообразных аспектах и проявлениях этой последней. В контексте вышеизложенного представляются далеко не случайными два обстоятельства. Во-первых, ведущая роль юристов в организации традиционных правопорядков на Западе вплоть до начала Нового времени. И во-вторых, практически всеобщая приверженность представителей профессионального юридического сообщества идеям юснатурализма, оказавшим, таким образом, определяющее влияние на развитие правопорядков западного мира от античности до раннего Нового времени.
Этот сознательный процесс развития правовых институтов и учреждений столь замечателен, что может быть уподоблен органическому росту живых существ. Легко заметить, что такая органическая аналогия не только продиктована вдохновляющим влиянием идей классического юснатурализма, лежавшего в основе развития правовых институтов, составляющего содержание западной правовой традиции, но и, в свою очередь, оказало влияние на доктрину юснатурализма, в течение ряда столетий занимавшую господствующие позиции в правовой доктрине и политической идеологии.
Таким образом, учение о естественном праве как идейная основа западной правовой традиции было самым непосредственным образом связано с конструируемой в рамках данной традиции модели правового регулирования, а также с правовым мышлением, типичным для соответствующей традиции. При этом модель регулирования, изначально формирующаяся спонтанно, на эмпирическом уровне, приобретает общезначимость в преломлении сквозь призму рациональности правового мышления, наивысшим рефлективным выражением которой становится правопонимание.
Последнее характеризует достаточно высокоразвитые правовые традиции и появляется относительно поздно. Однако с момента его появления, как можно было убедиться на примере классического юснатурализма Античности и Средних веков, именно правопонимание начинает формировать как сущностные характеристики правового мышления, так и модели регулирования поведения субъектов права.
Список литературы Учение о естественном праве как идейная основа западной правовой традиции
- Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 томах / С. С. Алексеев. Том 2. М.: Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, 1982. 360 с. EDN: RLSTQN
- Арановский К. В. Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений / К. В. Арановский, С. Д. Князев. М.: Проспект, 2016. 208 с. EDN: PRIWGB
- Бейтсон Г. Экология разума. М.: Смысл, 2000.
- Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М — НОРМА, 1998.
- Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. EDN: SGUYOR
- Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994.
- История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение / отв. ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
- ЛуковскаяД. И. Проблема определенности правопознания (в контексте эволюции юснатурализма) / Д. И. Луковская, И. Б. Ломакина // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 3 (87). С. 26-32. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-26-32. EDN: MHXGAL
- Малиновский А. А. Римская юриспруденция: методология и дидактика // Российское право: образование, практика, наука. 2017. № 4 (100). С. 29-35.
- Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм // Е. Б. Пашуканис. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: Юридическая литература, 1980.
- Полдников Д. Ю. Сравнительная история зарубежного права: учебник: в 2 томах / Д. Ю. Полдников. М.: Инфра-М, Норма, 2023. 544 с. DOI: 10.12737/2037407. EDN: LKDFYX
- Попондопуло В. Ф. Человеческая деятельность: правовые формы осуществления и публичная организация / В. Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2021. 736 с. EDN: NVXSFX
- Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер // Логика и рост научного знания: Избранные работы / Составление, общая редакция и вступительная статья В. Н. Садовского. М.: Прогресс, 1983. С. 33-235. EDN: TAHZVR
- Пракаш С. С. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. М.: ИЦ «Академия», 2006.
- Разуваев Н. B. Право как система и жизненный мир / Н. B. Разуваев // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2023. № 2 (16). С. 4-7. EDN: AVZGWC
- Разуваев Н. В. Правовая наука Древнего Рима: от мифа к логосу / Н. В. Разуваев // Российская юстиция. 2023. № 12. С. 19-26. DOI: 10.52433/01316761_2023_12_19. EDN: YBIMSG
- Рейснер М. А. Идеологии Востока. Очерки Восточной теократии / М. А. Рейснер. 1-е изд. М.: Юрайт, 2019. 355 с. (Антология мысли). EDN: SOQCIQ
- Юридические понятия и язык права: зарубежные исследования. М.: ИНИОН, 1986.