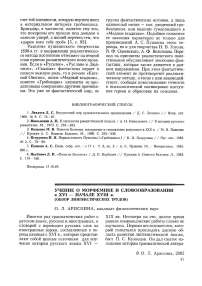Учение о морфемике и словообразовании в XVI - начале XVIII в. (обзор лингвистических трудов)
Автор: Арискина О.Л.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Филология, журналистика
Статья в выпуске: 3-4, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14718677
IDR: 14718677
Текст статьи Учение о морфемике и словообразовании в XVI - начале XVIII в. (обзор лингвистических трудов)
Имеется ряд грамматических работ о русском языке, русских и иностранных, и словарей с переводом русских слов на иностранные языки, составленных в период начиная с XVI в., которые представляют собой ценные источники для изучения истории русского языка XVI —
XIX вв. Несмотря па это, долгое время ранние языковедческие работы славян не изучались. Первым исследователем, который попытался проследить данную область развития лингвистической мысли, был П. С. Кузнецов. Он дал сжатое изложение истории грамматической литера-
туры в России — от дошедших до нас древних сочинений названного типа до трудов XVIII в. В настоящее время научный интерес к истории русского языкознания сохраняется, однако внимание ученых в основном сосредоточено на более позднем этапе.
Между тем XVI — начало XVIII в. можно назвать просветительской эпохой: «...в море неграмотности, которое раскинулось на территории Великого княжества Литовского, в Средние века появились маленькие островки культурной жизни — белорусские и украинские города» [2, с. 3]. Так называемые островки стали очагами просветительской работы в области лингвистики. Восточное славянство дало миру известных деятелей просвещения, «которые много сделали для успешного продвижения книги в широкие слои горожан» [2, с, 4].
Тогда же создаются азбуковники, алфавиты, буквари (как правило, с катехизисами), лексиконы. Гуманизм, распространение книгопечатания, Реформация и Контрреформация заложили предпосылки для составления первых грамматик ряда европейских языков, в том числе восточно-славянских. Переход к новому времени делает грамматику необходимым слагаемым и инструментом филологической культуры общества [9].
В XVI — начале XVIII в. издаются следующие лингвистические работы: «Букварь и катехизис» (Тюбинген, 1561 г.), «Грамматика» И. Федорова (Львов, 1574 г.), «Грамматика славян-скаго языка» (1586 г.), «Адельфотис...» (1591 г.), «Грамматика славянская» Л. Зизания (1596 г.), «Грамматика сло-венския правильное синтагма» М. Смот-рицкого (Евю, 1619 г.), «Грамматика» (Вильно, 1621 г.), «Букварь» (Москва, печ. Бурцева, 1634 г.), «Грамматика» М. Смот-рицкого (Москва, 1648 г.), «Грамматика словенская» Иоанна Ужевича (Франция, 1643 — 1645 гг.), «Граммат1ка или пись-менича языка словенскагш тщателенъ кикратцЪ издана в Креманце...» А. Пузины, епископа луцкого (1658 г.), «Гра-матично изсказан)е об руском ]езику...» Юрия Крижаиича (1666 г.), «Букварь языка славенскаго» С. Полоцкого (1679 г.), «Букварь славянорсоссзйскихъ письменъ уставныхъ и скорописныхъ, гре-ческихъ и латинскихъ й полскихъ со образованием вещей й со нравоучительными стихами» И. Кариона (1696 г.), «Грамматика славенская...» Ф. Максимова (1723 г.), которая представляет собой несколько переработанный вариант «Грамматик» М. Смотрицкого и А. Пузины.
Безусловную историческую и лингвистическую ценность имеет отражение вопросов морфемики и словообразования в языковедческих трудах XVI — начала XVIII в. Однако учение об указанных явлениях встречается не во всех перечисленных изданиях. По этой причине нами не будут анализироваться «Букварь и катехизис» 1561 г., «Грамматика» И. Федорова 1574 г. (дающая сведения об алфавите, орфографии, немного о морфологии (словоизменении и формообразовании) и представляющая вниманию обучаемых тексты православных молитв), «Букварь» 1634 г. (включающий кроме алфавита свод молитв и притч), «Грамматика словенская» Иоанна Ужевича (написанная на латыни и сохранившаяся в двух списках: Национальной библиотеки в Париже, датированном 1643 г., и библиотеки г. Арраса (Франция) 1645 г.), «Грамматика» 1621 г. (излагающая азбуку и глагольное изменение по лицам), «Граматичио изсказан]е...» Юрия Кри-жанича (являющееся «грамматикой придуманного Крижаничем языка; написано „Изсказан]е“ также на этом языке. Созданный Крижаничем язык фактически не был ни общеславянским языком, ни... реальным славянским языком XVII в., хотя несомненна его близость родному хорватскому языку автора» [9, с. 48]), «Букварь...» С. Полоцкого (в котором даются понятия о графике, делении слова на слоги и буквы, ударении, знаках препинания, численных значениях букв, а также молитвы) и «Букварь...» И. Кариона (излагающий учение о буквах и слогах с нравоучительными стихами).
Таким образом, интересны в плане морфемики и словообразования лишь оставшиеся шесть сочинений.
«Грамматика славянскаго языка», изданная в Вильно в 1586 г., стала библиографической редкостью. Автор этого языковедческого труда неизвестен до сих пор, что порождает огромное число версий.
Для нас значимо то, как в этом первом учебнике родного языка изложены морфемика и словообразование. Надо сказать, что подобных сведений очень мало или они совсем отсутствуют. Морфемика сводится к замечаниям (заметкам) о начертании, под которым подразумевается морфемная структура слова. Все начертания подразделяются на два класса — простые (Петр, Павел, дома) и сложные (Доброславъ, Радославъ, Доб-ромиръ). Термины начертание и простое начертание не дефинируются, а сложное начертание определено как: «а) двою частТи слова слагаются» (в этой формулировке можно увидеть отражение знаний и о словообразовании — словосложении). Из морфемных понятий особо привлекает словосочетание часть слова — прототип сегодняшней морфемы.
Как ни мизерна информация, она имеет большую историческую и лингвистическую ценность, так как показывает уровень знания о данных феноменах языковой системы в XVI в., методику научного изложения и обучения.
Произведение учеников Арсения Елас-сонского «Грамматика доброглаголива-го еллино-словенскаго языка АДЕЛФО- ТИХ» (1591 г.) — памятник письменности конца XVI в. Опа является переложением греческой грамматики на славянский язык: авторы предприняли попытку представить грамматические правила славянского языка по образцу греческого. Однако из анализа содержания книги видно, что не всегда в ней существовали параллельные тексты греческого и церковнославянского языков.
Морфемика и словообразование рассматриваются в главе «Этимология». Как базовые, основополагающие идут сведения о речении («речение есть часть малая сочинительного слова разделительная») — словоформе, о слове («слово есть речений сложения, мыслевамосовершепу являющее») — предложении, о различии («различие есть часть слова склоняема, предчиняема склонениемъ и подчиняема») — об определенной части речи (артикле) или (и) об окончании. Морфеми ка излагается в рамках учения о начертании. В отличие от вилеиской грамматики, в львовской выделяется третья разновидность морфемной структуры слова — пресложное начертание. Вот как усложняется морфемная структура слова по этой трехступенчатой теории: простое (смЪятеленъ), сложное (посмЪятеленъ), пресложное (пачепосмЪятеленъ).
Что касается вопросов собственно словообразования, то они изучаются с помощью понятия вида (недефинируемый термин) и его гипонимов — первообразный (ибо) и производный (нбный). Кроме того, здесь представлена целая система производных слов, дающая пищу для исследователей: в ней много спорных вопросов.
По мнению составителей книги, в славянском языке, как и в греческом, насчитывается семь видов производных слов, что отразилось в названии подраздела — «О седин видМхъ производныхъ имеМъ».
Средневековые лингвисты различают следующие разряды производного вида:
-
1) отеческое имя, «шт она начертава-емо и значащее сна шча...». Далее в рассуждении наблюдается резкий скачок в сторону словоизменения, что говорит о перазделении процессов словообразования и словоизменения учеными той поры: «Треродно же сему скланяему мужескш три иматъ кончайТя: ans, сиу, acz, как пи-линдовичь, пилиадовнчь, й ррадие-вичь...». Как видим, здесь очевидное несоответствие: греческие окончания и славянские примеры. Затем это несоответствие еще более усиливается: к отеческим именам кроме отчеств примыкают отсубстаитивные прилагательные (по теории у них тоже должны быть определенные греческие окончания): «Елика оубо имеМъ на 'о£, чистое кончаются, нас/бра начертавается отеческое, яко слнце, слнечный. Елика же не па чистое, па aczpa яко ирУямъ, пр!амидовичь. Елика же абра, яко пиллевъ, пилидовичь. Женская же отеческая принимать окон-чаюя as, is, on: солнечная, примидовпа, адрастовна».
В результате остается неясным, что же нужно было относить к этому подвиду: отчества или же все отсубстаитивные адъ-ективы;
-
2) зиждительное имя. Второй разряд производных в сравнении с отеческим именем можно считать практически неразработанным. Нет четкости и ясности в дефиниции: «Зиждительное имя есть гиждеше пЪкоея вещи являющее производится шт господствепный оглаголмы». Это может означать следующее: зиждительное имя обозначает основание (первоисточник) некоторых имен и производится от главного (господственного) слова. Но тогда все производные имена можно было бы назвать зиждительными: любое мотивированное слово несет в какой-то мере семантику того слова, которое явилось для него мотивирующим. Безусловно, в уяснении данного вопроса нам могли бы помочь примеры этого разряда производного вида. Однако они порождают еще большее количество вопросов и сомнений: платонское и платон-ское, омирское й омирское, еаское и еаское, чловеческое и чловеческое, конское и конское, царское и царское;
-
3) начертания рагсудительнаго и пре-восходнаго. Этот разряд, описывающий степени сравнения, должен, по-видимому, изучаться не в словообразовании, а в формообразовании, однако границы процессов словообразования, формообразования, словоизменения в XVI в. были еще очень размыты. Надо сказать, что понятия рассудительное и превосходное, де-фин ированы: «рагсудительное оубо имя есть даже разеуждеше бываетъ, къ ед-носажденнымъ и къ шоксажденнымъ» и «превосходное же имже превосхождеше являемы».
Судя по названию производного разряда, парадигма должна быть бинарной, ио, как видно из следующих сведений, в нее входит три компонента, как и в современном русском языке:
-
1) налагаема — сейчас положительная степень сравнения (кротокъ, праве-денъ);
-
2) рахсудителиа — сравнительная степень сравнения (кротчайипй, правьд нЪйшш);
-
3) превосходна — превосходная степень сравнения (прекротчайшш, пре-правьднЪшшй).
Однако, по мнению составителей, сте- 84
пени сравнения бывают и у глаголов, и у предлогов, и у причастий;
-
4) оумалительное имя, «...еже оума-леше первообразнаго безрагсуждешя являющее, сот господственныхъ же и (от глагаланныхъ имепъ производимо: мЪсяч-никъ, дЪвчинка, каменецъ, чловечокъ, кораблики, служебничка, служебница, рабыня, оброчокъ, мясце, дуривший»;
-
5) йтименное имя, «есть имя, еже сот имене производимо, яко деонъ сот бога, труфонъ сот пищи, платонъ сот широты».
Что здесь имеется в виду? Производство собственных имен от нарицательных? Нельзя сказать с определенностью, что это — родовидовая соотнесенность, непонятная современному человеку, или греко-славянские несоответствия;
-
6) £2тглаголыгьмъ —■ слова, образованные от глаголов, «сот страдательнаго, якоже наипаче протяженнаго, или сот пер-ваго лица, или втораго». В определении чувствуется терминологическое смешение нескольких глагольных категорий: залога, времени, лица. Примеров для этого разряда авторы не приводят.
Что касается седвмого вида производных, то он просто не обозначен, хотя подраздел и назван «О седми видКхъ производныхъ имеКъ».
Приведенной информацией и заканчивается так называемое ведение в словообразование.
Если львовская грамматика 1591 г. была задумана как двуязычное произведение, то «Грамматика славенска» Л. Зизания считается церковнославянской. Он радикально сокращает морфологический раздел, что, «по всей вероятности, обусловлено представлениями автора о грамматике как науке о письме» [7, с. 22]. Не удивительно, что вопросы словоизменения рассмотрены более подробно и детально, нежели словообразования.
В морфематическом аспекте излагаются сведения о начертании: простом, сложном, пресложном. Только в отличие от «Адельфотиса...» Л. Зизаний пытается дать определения этим разновидностям. Так, простое — это «егда речеше просто сущее, въ части значащая раздЪли-тися не можетъ, яко слово»; сложное — «егда речеше сложное сущее, въ части значащая раздЪлитися можетъ, яко блсл- вень»; пресложное — когда «речеше можеть раздЪлитися па три части, яко пребслвеиъ»
Далее грамматист характеризует морфемный состав слов различных частей речи. У глаголов, местоимений, наречий называются лишь два вида начертания: простое (пишу, несу) — сложное (пе-реписую, наношую), простое (азъ) — сложное (азъ самъ), простое (крел-цЬ) — сложное (благочинъ).
В области словообразования следом за «Адельфотисом...» Л. Зизаний выделяет два вида слов: первообразный и производный. Он прилагает к ним соответствующие определения, хотя само родовое понятие — вид так и не дефини-руется. Под первообразным видом Л . Зизаний понимает такие слова, которые «шт единаго происходить: небо, въздухъ, земля», иод производным — те, которые «сот иноу происходить: небесный, въз- душный, земный»
Более разработанной и осмысленной в отношении славянского языка той поры выглядит и система производного вида. Четыре разряда производных слов были заимствованы из «Адельфотиса...» (отеческий, умилительный, отыменной, глагольный), рассудительный и превосходный подвиды рассмотрены отдельно (не в системе производности), а зиждительный переработан и разведен по разрядам: отеческий, властный, отыменной. (Определения разрядов Л. Зизаний не дает, вместо этого используя удачные примеры и ориентирующие термины.) В целом система представлена следующим образом:
-
1. Отеческий: Константинович от Константина.
-
2. Властная: царский шт царя.
-
3. Языческая: еллинъ шт Еллады; москвитин шт Москва.
-
4. Умалительная: златоустец шт зла-тоустаго.
-
5. Отыменное: златый шт злата.
-
6. Глагольная: читатель сот читаю.
Не относя изменения прилагательных по степеням сравнения к словообразованию, как это было сделано учениками Арсения Елассонского, Л. Зизаний ле рассматривает данный процесс и в словоизменении, а затрагивает в самом начале вместе с понятиями этимологии, речения, слова. Степени объединены под родовым термином разсуждепТе. Их также три: положенный (стый), разеудный (сТЬшшй), превысшш (пресвятЪшшй). Кроме того, они подразделены па два класса: подобо-начертательное (степени образуются «благолепно»): блженъ — блженнЪйипй; стропотное (степени образуются «нелепо»): блГШ — лучшей.
Таким образом, переработка морфемного и словообразовательного учений была заметной. И этот факт очень существен, поскольку братские школы пользовались грамматикой Л. Зизания в течение 25 лет. Вполне возможно, что по ней учились и позднее.
Грамматики М. Смотрицкого 1619 и 1648 гг. высоко оценены многими языковедами. По словам Д. Б. Захарьина, М. Смотрицкий синтезировал греческие, латинские, церковнославянские, западнославянские культурно-языковые традиции [4, с. 96]. Морфемика в его учении тесно связана с морфологией, определенной частью речи. Особое внимание уделено словоизменительным морфемным окончаниям. Описываются флексии и формообразующие суффиксы степеней сравнения, анализируются пути их формирования.
Собственно морфемике посвящено традиционное учение о начертании, которое, по мнению грамматиста, может быть простым — «имя само шт себъ без примЪшешя стоящее познавается, яко славный»; сложным — «двемя речешями состоящее имя познавается, яко преслав-ный»; пресложным — «треми реченьми сложенное имя предлагается, яко препрос-лавный». Однако у предлогов, как считает М. Смотрицкий, имеется только два вида морфемной структуры — сочинительная и сложная. Но принцип классификации служебных слов не совсем ясен. Союзы тоже подразделены на простые (прежде), сложные (прежде даже) и пре-c. ложные (прежде даже не). Последние два разряда в современной науке о языке относятся к составным.
На слов образовательном уровне все части речи в грамматическом труде классифицируются по принципу производности — непроизводности. Автор пользуется уже известными терминами вид, первообразный вид, производный вид. В отличие от прежних грамматистов М. Смотрицкий пытается дать определение вида: «видъ есть первоюбразнагш речения и производнаго разделение». Не подразделяются на первообразные и производные только предлоги и союзы. Относительно же деривационной классификации знаменательных частей речи возникает немало вопросов. Так, удивительно, что наречие днесь при имеющемся существительном день отнесено в разряд пе-производпых. В делении местоимений на первообразные (азъ, ты, себе, самъ, объ, онъ, кто, той, чш, сей, кой, его) и производные (мой, твой, свой, нашъ, вашъ, мене, тебе, себе, насъ, васъ) не разграничиваются понятия словообразования и словоизменения.
Система производного вида насчитывает восемь разрядов:
-
1. Отчеименный, или притяжательный, «шт оца на сны изливается»: Павловъ сот Павла.
-
2. Отечественный, «сот отечества происходить»: москвитинъ сот Москва.
-
3. Властелипный, «сот власти происходить»: царевич, царевна сот царя.
-
4. Языческий, «сот в страны притя-жется»: грекъ, грекиня сот Грецш.
-
5. Отыменный, «сот именъ начерта-вается»: солнечный сот солнца.
-
6. Глагольный, «сот глаголь производится»: чтеше, чтецъ сот чтоу.
-
7. Оумалительный, «иже вещи оума-леше знаменуетъ»: словцъ сот слова.
-
8. Оуничижительный, «иже оуничи-жеше вещи приносить»: женище женЪ, детище дитяти.
Кроме того, М. Смотрицкий пополнил объем производных, введя новые виды —-уничижительный и отечественный.
Таким образом, словообразовательный уровень в грамматическом труде 1648 г. представлен полнее, чем в других грамматиках. Однако М. Смотрицкий не включил в учение о морфеме столь важное понятие, как значащая часть — достижение Л. Зизания.
Все недостатки и достоинства «Грамматики» 1648 г. необходимо знать и учитывать, поскольку она получила очень широкое распространение на исторической территории восточного славянства и была 86
признана первой книгой среди других учебных пособий по языку. Все последующие лингвистические издания до «Российской грамматики» М. В. Ломоносова были либо полными, либо сокращенными вариантами грамматики М. Смотрицко-го.
«Грамматика или письменича языка словенскагсо тщателенъ кикратцъ издана в Креманце» (1658 г,) А. Пузины и «Грамматика славенская...» Ф. Максимова (1723 г.) представляют собой такие сокращения. Морфемика в них сводится к учению о начертании и его типах. Все термины и примеры заимствованы из труда М. Смотрицкого. Но есть и небольшие различия. А. Пузина оставляет классификацию предлогов на сочинительные и сложные, приводя тождественные примеры. Ф. Максимов убирает сведения о начертании предлогов. То же происходит и с делением местоимений на простые (азъ) и сложные (азъ самъ), существующим в работах М. Смотрицкого и А. Пузины и исчезнувшим в книге Ф. Максимова. Однако последний вводит сведения о междометии и его начертаниях: простом (о), сложном (со онъ), пресложном (даждь то бже), хотя эту классификацию корректнее отнести не только к морфемике, но и к фразеологии (два последних начертания — составные единицы; пресложное — фразеологизированное сочетание, т. е. о морфемном составе слова можно говорить крайне условно).
Словообразовательные термины, встречающиеся на страницах лингвистического труда 1648 г., остались без изменений и в работах 1658 и 1723 гг. Система производного вида — традиционная.
Шаг вперед сделан в области формообразования . Но этот «шаг» принадлежит двум ученым: полшага — А. Пузине, полшага — Ф. Максимову. Речь идет о возрождении учения Л. Зизания о по-добопачертательных и стропотных степенях сравнения. Их вскользь упоминает М. Смотрицкий. В «Грамматике...» А. Пузины встречается замечание о правильной рассудительной степени: «прави-пое егда вштри оуравншТя степени, со то-гожде слога начниди», а в «Грамматике славенской» Ф. Максимова говорится
(без упоминания правильной) о неправильной (супплетивной) форме степени сравнения. Правда, дефиниция отсутствует, ио есть примеры:
«неправильная суть:
Конечно, нельзя отрицать, что эти работы по форме гораздо совершенней предшествующих. Они представляют собой «очищенное сокращение... сделанное съ умом и разборчивостью» [6, с. 206], но по содержанию, развитию научной мысли данные грамматики остались на уровне 1648 г. Это не означает, что для истории лингвистики они не являют никакой ценности: любая динамика или статика в науке — всего лишь отрезок на спирали ее развития; одни научные мысли начинают новый виток (динамика), другие, подводя итоги, его заканчивают. Рассмотренные грамматики как раз завершали доломо-носовский этап изучения морфемики, словообразования и языковых единиц в целом. Следующий виток связан с именем М. В. Ломоносова. Но то, что было достигнуто до него, то, на что он не мог не опереться в своих трудах, должно быть тщательным образом исследовано и проанализировано.
1. Адельфотис: Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго языка. Совершеннаго искустваосми частей слова. Львов : Братская тип., 1591.
2,
Ботвинник М. Б.
Лаврентий Зизаний / М. Б. Ботвинник. Минск : Наука и техника, 1973. 200 с.
3. Грамматика славянскаго языка. Вильно : Тип. Мамоничей, 1586.
4,
Захарьин Д. Б.
Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик 15 — сер, 18 века : лис. ... канд. филол. наук / Д. Б. Захарьин. М., 1995. 244 с.
5.
Зизаний Л.
Грамматика славенска совершеннаго искуства осми частей слова / Л. Зизаний. Вильно, 1596. '
6.
Каченовский М. Т.
Исторический взгляд на грамматики славянских наречий / М. Т. Каченовский // Вести. Европы. 1817. Ч. 93, № 11.
7.
Кузнецов П. С.
Историческая грамматика русского языка: Морфология / П. С. Кузнецов. М. : Изд-во Моск, ун-та, 1953. 306 с.
8.
Максимов Ф.
Грамматика славенская въ кратце собранная въ Грекославенской школе яже въ великомъ Нове граде при доме архиерейскомъ / Ф. Максимов. СПб. : Александроневская тип., 1723.
9. Мечковская Н. Б.
Ранние восточно-славянские грамматики / Н. Б. Мечковская. Минск : Университетское, 1984. 159 с.
10.
Пузина А.
Грамматика, или Писменница языка словенскапо тщателемъ въ кратце издана в Кре-мянци / А. Пузина. Кременец, 1658,
11.
Смотрнцкий М.
Грамматика / М. Смотрицкий. М., 1648.
Список литературы Учение о морфемике и словообразовании в XVI - начале XVIII в. (обзор лингвистических трудов)
- Адельфотис: Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго языка. Совершеннаго искуства осми частей слова. Львов: Братская тип., 1591.
- Ботвинник М. Б. Лаврентий Зизаний/М. Б. Ботвинник. Минск: Наука и техника, 1973. 200 с.
- Грамматика славянскаго языка. Вильно: Тип. Мамоничей, 1586.
- Захарьин Д. Б. Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик 15 -сер. 18 века: дис.. канд. филол. наук/Д. Б. Захарьин. М., 1995. 244 с.
- Зизаний Л. Грамматика славенска совершеннаго искуства осми частей слова/Л. Зизаний. Вильно, 1596.
- Каченовский М. Т. Исторический взгляд на грамматики славянских наречий/М. Т. Каченовский//Вестн. Европы. 1817. Ч. 93, № 11.
- Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка: Морфология/П. С. Кузнецов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. 306 с.
- Максимов Ф. Грамматика славенская вь кратце собранная вь Грекославенской школе яже вь великомь Нове граде при доме архиерейскомь/Ф. Максимов. СПб.: Александроневская тип., 1723.
- Мечковская Н. Б. Ранние восточно-славянские грамматики/Н. Б. Мечковская. Минск: Университетское, 1984. 159 с.
- Пузина А. Грамматика, или Писменница языка словенскагсо тщателемь вь кратце издана в Кремянци/А. Пузина. Кременец, 1658.
- Смотрицкий М. Грамматика/М. Смотрицкий. М., 1648.