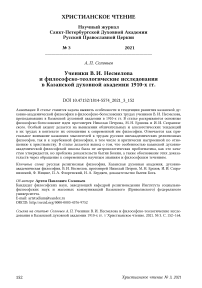Ученики В. И. Несмелова и философско-теологические исследования в Казанской духовной академии 1910-х гг
Автор: Соловьев Артем Павлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 300-летию духовного образования в Санкт-Петербурге
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится задача выявить особенности и тенденции развития казанской духовно-академической философии в философско-богословских трудах учеников В. И. Несмелова, преподававших в Казанской духовной академии в 1910-х гг. В статье раскрываются основные философско-богословские идеи протоиерея Николая Петрова, М. Н. Ершова и И. И. Сатрапинского. Особый акцент делается на выявлении обличительных и апологетических тенденций в их трудах в контексте их отношения к современной им философии. Отмечается как пристальное внимание казанских мыслителей к трудам русских внеакадемических религиозных философов, так и к зарубежной философии, в том числе и критически настроенной по отношению к христианству. В статье делается вывод о том, что особенностью казанской духовноакадемической философской школы была не антропологическая проблематика, как это зачастую утверждается, но проблема доказательств бытия Божия, а также обоснование этих доказательств через обращение к современным научным знаниям и философским течениям.
Русская религиозная философия, казанская духовная академия, духовноакадемическая философия, в. и. несмелов, протоиерей николай петров, м. н. ершов, и. и. сатрапинский, ф. ницше, п. а. флоренский, н. а. бердяев, доказательство бытия бога
Короткий адрес: https://sciup.org/140257060
IDR: 140257060 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_152
Текст научной статьи Ученики В. И. Несмелова и философско-теологические исследования в Казанской духовной академии 1910-х гг
Вопрос о формировании философской школы в Казанской духовной академии
Философия в Казанской духовной академии может быть представлена несколькими именами, одни из которых известны многим интересующимся русской философией XIX — начала ХХ вв., а другие неизвестны даже узким специалистам по духовно-академической философии. Если говорить о плеяде наиболее ярких казанских духовно-академических философов, что тут выстраивается такая цепочка: архиепископ Никанор (Бровкович) со своей «Позитивной философией и сверхчувственным бытием» [Никанор Бровкович, 1875; Никанор Бровкович, 1876], которую он начал писать именно в Казани, далее — Вениамин Алексеевич Снегирев, психолог и автор изданных отдельным томом лекций по метафизике [Снегирев, 1890], Петр Алексеевич Милославский, ученик архиеп. Никанора и автор труда «Основания философии как специальной науки» [Милославский, 1883], Виктор Иванович Несмелов с «Наукой о человеке» [Несмелов, 1898; Несмелов, 1906] и своими учениками, трудившимися в Казанской духовной академии вплоть до ее разгрома. К этой плеяде примыкают митр. Антоний (Храповицкий), автор диссертации о свободе воли, бывший три года ректором Казанской духовной академии, Андрей Кононович Волков — многолетний преподаватель истории философии в Академии, Александр Федорович Гусев — специалист по основному богословию и критик учения Льва Толстого.
Но вопрос о том, можно ли назвать эту плеяду школой, остается открытым. Философская школа — это такой неформальный институт, который все-таки имеет четкие границы и признаки. Как отмечает Марк Шведа вслед за Рольфом Виггерсха-усом: «Школа характеризуется, соответственно, как минимум следующими четырьмя признаками: (1) интеллектуально незаурядная личность, которая готова и способна сотрудничать с другими учеными; (2) оригинальная теоретическая парадигма, стимулирующая научную работу в школе и обеспечивающая ее содержательную внутреннюю связь; (3) манифест, к которому члены школы могут обращаться как к теоретически основополагающему, программному тексту; (4) общая институциональная среда, а также журнал или другие издания, в которых публикуются результаты исследований» [Шведа, 2020, 221].
Несомненно существование и общей институциональной среды, и журнала, где была возможность публиковать результаты философских исследований в Казани. На роль незаурядной личности основателя философской школы Казанской духовной академии могут претендовать многие из перечисленных. Но при этом у большинства их них мы найдем ссылки именно на тексты архиеп. Никанора. Есть прямые ссылки у Милославского, Несмелова, Гусева, позже на него косвенно ссылается о. Николай Петров, о котором пойдет речь далее. Представляется, что начало казанской философской школы следует связывать с «Позитивной философией и сверхчувственным бытием» архиеп. Никанора (Бровковича), с трактатом, который можно назвать философским манифестом.
Что касается оригинальной теоретической парадигмы, то она уже выражена названием труда архиеп. Никанора. Именно поиск возможности доказательства бытия Божия в связи и даже благодаря современной нерелигиозной философии и науке — это то, что есть и у Снегирева в его обращении к позитивизму, по примеру архиеп. Никанора, и у Милославского в его попытке синтезировать тот же позитивизм со святоотеческим богословием, и у Несмелова в его обращении к английской эмпирической психологии и в использовании им кантианских идей.
В этом смысле парадигма казанской духовно-академической философии состояла в идее возможности возрастания до целостной — то есть (в их понимании) религиозной — философии тех односторонних современных внерелигиозных философских и научных концепций при условии их корректного последовательного логического развития. Такое утверждение позволяет говорить именно о методологическом единстве казанской духовно-академической философии и не сводить ее общность к предметной области философской антропологии. Именно это сведение и не дает увидеть казанскую духовно-академическую философию как школу, ведь если утверждать, что ее цементирует именно «наука о человеке», то в этой «школе» оказываются лишь Снегирев и Несмелов. Для них «наука о человеке» была именно способом преодоления односторонности позитивизма и кантианства, позволявшим подойти к возможности доказательства бытия Бога.
Но при этом как раз «Наука о человеке» Несмелова стоит как огромная глыба, которая поражает масштабом и сама претендует на роль парадигмального для казанской духовно-академической философии труда. Но ни о ком из духовно-академических мыслителей нельзя сказать, что именно он и развивал антропологические идеи Несмелова. Одновременно с этим некоторые существенные аспекты философии Не-смелова можно найти в основе философских воззрений Н. А. Бердяева (см.: [Бердяев, 1909, 55–72]). Так, например, можно утверждать, что понятие объективации Бердяев воспринял не напрямую от Шопенгауэра, а через Несмелова. Это же относится к ключевой идее Бердяева о том, что дух творит тело. Не говоря уже о том, что как для Несмелова, так и для Бердяева основополагающими моментами для понимания человека являются творчество и свободная воля.
В самой Казанской духовной академии под влиянием и непосредственным руководством Несмелова в первые годы XX в. активно работало студенческое философское общество, на заседаниях которого обсуждалась современная русская литература, философия и, в первую очередь, — воззрения Л. Н. Толстого. В собраниях общества ставились вопросы о соотношении христианского мировоззрения с мировоззрениями Н. В. Гоголя, М. Горького, Вл. С. Соловьева [Panaitova, Solovev, 2019, 7456–7459]. Но при этом современный исследователь А. В. Журавский смог отметить лишь двух преподавателей Казанской духовной академии как учеников Несмелова: «Учениками Несмелова были доцент М. Н. Ершов и и. д. доцента академии И. И. Сатрапинский» [Журавский, 1999, 129].
Дело обстоит, конечно, не так скудно, как на это указывает Журавский, но и перспективы развития философии в направлении школы в 10-е годы XX в. в Казанской духовной академии назвать радужными затруднительно. Возможно, это связано с тем, что именно из Несмелова пытаются вывести казанскую философскую школу, в то время как его труды, по всей видимости, были именно пиком ее развития и началом ее спада, что заметно по текстам его учеников. Однако, прежде чем рассмотреть, насколько Ершов и Сатрапинский действительно развивали идеи Несмелова и (или) отходили от парадигмы казанской духовно-академической школы, необходимо указать на еще одного преподавателя Казанской духовной академии, который точно развивал темы и Несмелова, и архиеп. Никанора, — богослова и философа протоиерея Николая Васильевича Петрова.
Математическое доказательство бытия Божия: философско-теологические труды профессора Казанской духовной академии протоиерея Н. В. Петрова
Протоиерей Николай Васильевич Петров (1874–1956) — сын священника, учился в Ливенском духовном училище и Орловской семинарии (в которых тремя годами ранее получал образование С. Н. Булгаков), в 1898 г. завершил обучение в Казанской духовной академии, где преподавал с 1900 по 1912 г. Позже — профессор богословия в Казанском университете. Одновременно читал курсы в Казанской духовной академии. Научные труды публиковал до 1918 г. Во время обучения в Академии, несомненно, находился под влиянием еп. Антония (Храповицкого), бывшего в то время ректором Казанской духовной академии. Слушал курс метафизики у проф. В. И. Несмелова. В 1921 г. стал ректором неофициального Казанского Богословского института, образованного преподавателями закрытой советской властью Казанской духовной академии. С 1922 г. и в 1930-е гг. неоднократно арестовывался, был в ссылках, долгое время служил в храмах Мурома, где и скончался в 1956 г. [Ермошин, 2016].
Прот. Николай Петров — автор исследований по богословию и апологетике (тематика которых включает философскую проблематику). В 1899 г. под руководством Не-смелова он защищает магистерскую диссертацию «Сочинение Оригена „О Началах“. Историко-критический очерк» [Петров, 1899]. Сама тематика сочинения, несомненно, указывает на влияние Несмелова, писавшего свою магистерскую диссертацию о свт. Григории Нисском, идеи которого формировались под влиянием Оригена.
Основные работы о. Николая: «Нравственно-религиозное развитие Гоголя» [Петров, 1909], «Об Антихристе» [Петров, 1912а], «О Святой Троице (Опыт истолкования догмата при помощи аналогий из мира материального и из природы человечества и человека)» [Петров, 1912b], «На чем основывается религиозная убежденность христианина? (К вопросу о научном характере богословия)» [Петров, 1913], «Законы мира и бытие Бога (Номологическое доказательство бытия Божия)» [Петров, 1914], «Жизнь после смерти» [Петров, 1915a], «Об искуплении» [Петров, 1915b], «О юридической и нравственной теориях искупления» [Петров, 1915c], «Бесконечное и ничто (Математическое доказательство бытия Божия)» [Петров, 1918].
Одна из наиболее интересных работ о. Николая — «Бесконечное и ничто (Математическое доказательство бытия Божия)» (1918). Обращаясь к теории множеств Г. Кантора и различая вслед за ним актуальную и потенциальную бесконечность, автор доказывает, что любое конкретное явление является результатом соотношения бесконечного бытия (актуального бесконечного) и нуля-ничто. Эта попытка отсылает в идейном плане к использованию идей Г. Кантора в трактате о. Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины» (1914). Однако в статье 1918 г. о. Николай не упоминает работу о. Павла. Это могло бы означать, что о. Николай самостоятельно открыл для себя Кантора и идею математического доказательства бытия Божия. Но если обратиться к другой работе казанского философа-богослова — «Жизнь после смерти» (1915), — то там можно обнаружить обстоятельную критику той концепции спасения, которую развивает о. Павел в работе «Столп и утверждение Истины».
Изложение и критика основной идеи о. Павла об антиномическом единстве «невозможности возможности всеобщего спасения» и «невозможности невозможности всеобщего спасения» занимает одно из центральных мест в работе о. Николая. Казанский мыслитель пишет о том, что о. Павел не допускает загробного страдания личности (как образа Божия), предполагая пребывание в геенне только «злого характера», который отделяется от личности [Петров, 1915a, 70]. О. Николай выдвигает три возражения против этого утверждения.
Первое возражение заключается в том, что, по мнению о. Николая, у о. П. Флоренского «преобладает феноменалистическое понятие об отделяющихся от личности психических элементах», которые мучаются в геенне отдельно от субстанциальной основы личности [Петров, 1915a, 69]. Второе возражение связано с тем, что эти «злые характеры», по Флоренскому, в геенне оказываются чем-то только «в себе и для себя» существующим. То есть они оказываются невидимы для Бога, что вызывает недоумение в отношении всеведения Божия. Третье возражение связано с тем, что, несмотря на небытийность этих злых характеров в геенне, они там все-таки мучаются, то есть живут, а значит, представляют собой не ничто, а некую «чтойность». В конечном счете, о. Николай Петров противопоставляет антиномизму о. П. Флоренского аргумент духовного опыта: «Но ведь это отсечение и удаление от греха означает, как известно, то, что грех теряет привлекательность для человека, делается даже отвратительным для него, а потому не повторяется и уже не тяготит его совесть, а не то, что „грех делается самостоятельным и на себя обращенным актом“ (стр. 220 («Столпа». — А. С.)). Первое — освобождение души от греховного рабства и успокоение совести — есть факт внутреннего опыта, хорошо известный каждому искренно покаявшемуся человеку; второе же, именно самостоятельное существование греха отдельно от покаявшегося грешника, ничьим и никаким опытом не утверждается и не может утверждаться — даже по признанию самой гипотезы, ибо „действие его (греха, отделившегося от грешника) на все внешнее равно абсолютному нулю“» [Петров, 1915a, 70–71].
Эта критика оказывается проработкой и детализацией того подозрения в неортодоксальности, которое позже высказывал Бердяев в адрес концепции о. Павла Флоренского. А для поиска общих моментов в воззрениях Бердяева и о. Николая Петрова есть достаточные основания. Важно при этом то, что о. Николай подходит тут не с точки зрения несоответствия идеи о. Павла догматике, но с точки зрения внутреннего противоречия концепции Флоренского, антиномического начала которой, вероятно, казанский философ-апологет не принял.
Позиция самого о. Николая Петрова в вопросе о спасении может быть обозначена как «нравственная теория искупления», в которой он следует своим наставникам — митр. Антонию (Храповицкому) и В. И. Несмелову. По указанию Петрова, когда «Бог ведет грешника ко спасению, то терпит в нем зло до тех пор, пока достигнет полной победы над злом при помощи сил самого спасаемого», и при этом если бы Бог Сам не допускал существование зла в мире, то это «значило бы уничтожить нравственный мир, — высочайшую ценность бытия» [Петров, 1915a, 78]. Положения этой концепции, опирающейся на идею нравственной свободы, также имеют свои уязвимые места, как и теория спасения о. Павла Флоренского.
Суть возражений о. Николая Петрова может быть выражена так: о. Павел Флоренский отрывает энергию от сущности и говорит о том, что энергии тварной субстанции могут жить отдельно от этой субстанции. При этом ключевым моментом, на котором не акцентирует своего внимания критик Флоренского, является указание на «грех» и «злой характер» как на «абсолютное ничто». Но именно это отсылает у о. Павла Флоренского к вопросу о том, что такое абсолютное ничто в контексте его интереса к теории множеств Георга Кантора, чьи труды, видимо, до знакомства со «Столпом…» не были известны о. Николаю Петрову.
Так, очевидно, что в ходе критики концепции о. Павла в 1915 г. казанский профессор-протоиерей однозначно воспринимает понятие «ничто» как простое отсутствие. Иное понимание «ничто» появляется у него именно в «Бесконечном и ничто» (1918). И «ничто» тут уже понимается иначе: как то, из чего Бог творит мир. О. Николай демонстрирует, что число, пространство, движение, физическая сила, время, психическая сила или человеческий дух являются произведением бесконечности на ноль. При этом он корректно оговаривается, что речь идет об актуальной бесконечности, лежащей за пределами любого максимального числового ряда. Одновременно речь идет тут о том, что это бесконечное должно быть абсолютной реальной творящей силой, а самоопределение того, что конечное есть произведение бесконечного на ноль — это «лишь отвлеченно-математическое выражение реальных факторов и их взаимных отношений» [Петров, 1918, 21]. То есть тут «ничто» оказывается некоей реальностью. Признание этого могло бы привести о. Николая к изменению своего отношения к пониманию геенны у о. Павла Флоренского.
Здесь, правда, хотелось бы уточнить, что можно предположить и иные факторы генезиса текста о. Николая о «бесконечном» и «ничто». Вопрос о соотношении абсолютного бытия и абсолютного небытия еще в 1870–80-е гг. ставил в своем трактате «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» архиеп. Никанор (Бровкович), бывший в 1868–1871 гг. ректором Казанской духовной академии. Именно у него можно найти концепцию творения Богом конечного бытия из ничто [Никанор Бров-кович, 1876, 31–45]. Это положение в некоторой мере отсылает и к «Прибавлению к слову о смерти» свт. Игнатия (Брянчанинова) [Игнатий Брянчанинов, 1886], на которого, помимо Кантора, как раз ссылается о. Николай Петров.
Преимущественно, конечно, о. Николая Петрова можно назвать апологетом, специалистом по основному богословию. Но именно у него прослеживается тематика развития и критики доказательств бытия Божия, которая была столь характерна для архиеп. Никанора (Бровковича) и Несмелова. Одновременно с этим у о. Николая
Петрова присутствует живой интерес к современному научному знанию, которое он вслед за архиеп. Никанором, Снегиревым, Милославским, Несмеловым, Флоренским пытался не просто использовать в апологетических целях, но вывести за рамки чисто позитивистской интерпретации.
От Мальбранша к русской философии и на Дальний Восток: направления философских исследований М. Н. Ершова в Казанской духовной академии
Иначе сложилась судьба научной деятельности Матвея Николаевича Ершова . В своем исследовании истории Казанской духовной академии начала XX века Журавский указывает только две его работы и один перевод: «Матвей Николаевич Ершов окончил академию в 1911 году, был профессорским стипендиатом при кафедре Священного Писания Ветхого Завета, заняв вскоре 1-ю кафедру Священного Писания Ветхого Завета. В июне 1914 года Ершов защитил магистерскую диссертацию „Проблема богопознания в философии Мальбранша“, а 19 сентября 1914 года по договоренности с доцентом Н. Д. Терентьевым (опубликовавшим до этого лишь один очерк по предмету своей кафедры — „Отличительные черты новой европейской философии сравнительно с философией древней и средневековой“ (1911)), был перемещен на кафедру истории философии. М. Н. Ершов помимо своей магистерской диссертации опубликовал еще в „Православном собеседнике“: перевод с французского языка сочинения Мальбранша „Беседа христианского философа с философом китайским о бытии и природе Божества“ (1914), а также очерк „Проблемы религиозно-философской мысли в современной Франции“ (1916)» [Журавский, 1999, 129].
Однако многим специалистам М. Н. Ершов известен своим исследованием, посвященным истории русской философии, которое было написано после его отъезда из Казани на Дальний Восток. При этом история русской мысли его интересовала еще в ходе работы в Академии. И что тут наиболее важно — и историко-философский интерес к окказионализму Мальбранша, связанный с проблемой соотношения материального и идеального в контексте вопроса о бытии Бога, и интерес к русской философии явно оказываются в Казанской духовной академии направлениями, развитие которых определяется трудами Несмелова и наиболее волнующей его темой богопознания.
Современный исследователь трудов Ершова отмечает: «Суть богословской концепции Ершова заключается в том, что проблему богопознания он выводит за рамки религиозного дискурса и включает в философский, используя в качестве метода познания его методологию. Выделяя существенное отличие религиозного познания Божества, как ориентированного, прежде всего, на Откровение, от философского познания об Абсолюте, как исходящего из законов логики нашего разума, Ершов настаивает на значимости богопознания философов для богословской науки, ввиду предметного единства религиозных верований и философских размышлений. Он выдвигает идею синтеза, объединения религии и философии, соглашения христианского религиозного миросозерцания с элементами научно-философского мышления. И пример такого единения Ершов видит в философии французского христианского мыслителя Никола Мальбранша» [Костомясова, 2007, 289].
Собственно, в этой вполне верной характеристике невозможно найти ничего, что было бы оригинальным по сравнению с идеями Несмелова, кроме самой работы с текстами Мальбранша. При этом в эмиграции Ершов фактически совершенно оставляет вопросы гносеологии и онтологии и начинает заниматься философией образования, психологией, педагогикой. Этот разрыв достаточно резок.
Можно сказать, что единственное связующее звено между казанским и дальневосточным периодом научного творчества Ершова — это тема русской философии и путей русской культуры: «Вводя понятие антиинтеллектуализма, вбирающее в себя всю совокупность направлений, условно находящихся в „кризисе“ согласно теории В. С. Соловьева, он отмечает, что его базисной установкой является рассмотрение разума в качестве „орудия жизни“, инструмента, ценность которого заключается в его полезности и практической пригодности. Ярким представителем антиинтеллектуализма Ершов считает А. Бергсона, в частности он приводит его размышления относительно практических целей познания, всегда направленного в сторону пользы, а не истины. В современной русской философской литературе проявления антиинтеллектуализма Ершов видит в творчестве С. Л. Франка, который, признавая право чистого познания как самодовлеющей единицы за натурами „избранными*1, исключительными, утверждает, что и здесь в познавательную деятельность личности вторгаются ее субъективные пристрастия и предубеждения» [Костомясова, 2007, 292].
Статья об антиинтеллектуализме 1916 г. — не первое исследование М. Н. Ершова, которое посвящено истории русской философии. В № 11–12 журнала «Православный собеседник» за 1915 г. была опубликована библиографическая заметка Ершова «К характеристике суждений о русской философии» [Ершов, 1915]. Эта заметка написана как ответ на статью N. Seliber «La pense russe prеsente-t-elle des tendances originales en philosophie?» («Русская философия — представляет ли она из себя оригинальное направление в философии»), опубликованную в журнале «Revue Philosophique de la France et de l’Etranger» («Вестник французской и зарубежной философии») в 1914 г.
В этой статье М. Н. Ершов, признавая влияние западной философии на русскую, сразу же пишет, что «в области философской мысли в той или иной мере сказались своеобразные черты русского национального духа» [Ершов, 1915, 431]. Ершов пишет, что автор французской статьи выделяет в русской философии в качестве ее особенностей сочетание истины и справедливости, а также «искание конкретной истины» [Ершов, 1915, 433] и то, что исходным пунктом является «элемент социальной морали» [Ершов, 1915, 435]. Ершов отмечает, что автор статьи делает акцент на философских воззрениях В. С. Соловьева и С. Н. Трубецкого, уделяет пристальное внимание Плеханову, Лаврову и Михайловскому, указывая на их принадлежность национальной философии, несмотря на западноевропейские истоки их философии. Ершов обращает внимание на то, что французский исследователь выделяет в отдельный раздел «конкретный, спиритуалистический идеализм и творческую причинность», включая сюда Лопатина, Каринского, Козлова, Аскольдова [Ершов, 1915, 440]. Отдельный раздел в статье Seliber’a посвящен Булгакову, Бердяеву и Н. Лосскому как сторонникам антииндивидуализма.
Положительно оценивая исследование Seliber’а, Ершов отмечает: «Труд более или менее исчерпывающего характера по истории русской философской мысли — еще дело будущего» [Ершов, 1915, 445–446]. Именно это, видимо, и побудило Ершова написать этот труд спустя семь лет во Владивостоке. И при этом нужно отметить, что при изложении русской философии М. Н. Ершов практически полностью игнорирует воззрения своего учителя — Несмелова. Это объясняется только тем, что он воспринимает его в качестве богослова, а не философа. Поэтому Ершова можно определить как того, кто, в отличие от Петрова, отошел от идей казанской философской школы, для которой вполне естественной была связь богословия, философии и «позитивной науки». Возврата к Мальбраншу тут быть не могло. Но иначе обстояло дело еще с одним учеником В. И. Несмелова — Иваном Ивановичем Сатрапинским.
Философия обличающая: И. И. Сатрапинский о критике христианства у Ф. Ницше и историографии исследования его философии
Иван Иванович Сатрапинский (ок. 1885-?) — выпускник Казанской духовной академии 1909 г. Журавский пишет о нем: «Другой ученик Несмелова Иван Иванович Сатрапинский, окончивший академию в 1909 году и бывший в течение 1909–1910
учебного года профессорским стипендиатом по кафедре метафизики. Им опубликованы в 1916 году в „Православном собеседнике“ два крупных очерка „Философия Ницше в ее отношении к христианству (Опыт богословско-философского исследования философии Ницше)“ и „Философия Ницше в критической литературе“. Защитить магистерскую диссертацию Сатрапинский не успел, т. к. печатание его магистерской диссертации растянулось на несколько лет и, в конце концов, так и не было окончено» [Журавский, 1999, 130].
Эти статьи Сатрапинского представляют собой исследование по историографии, и, казалось бы, особого значения для характеристики личных воззрений Сатрапин-ского они не имеют. Но в этом смысле они важны именно в институциональном аспекте, так как показывают те новые акценты, которые философы в духовных академиях должны были расставлять в своих трудах в условиях активизации развития религиозной философии светскими мыслителями Серебряного века, прошедшими преимущественно путь от материализма к идеализму и начавшими в 1910-х гг. делать свои первые шаги в качестве богословов-мирян.
Отношение Сатрапинского к Ницше однозначно резко отрицательное. Свою статью «Философия Ницше в ее отношении к христианству (Опыт богословско-философского исследования философии Ницше)» (1916) Сатрапинский начинает следующей характеристикой: «Ницше не просто атеист, но и до полного исступления озлобленный враг всякой религии и в особенности христианства. Он не просто имморалист, но и страстный противник всякой этической нормы жизни и бесстыдный поэт нравственной распущенности. Он не просто индивидуалист, но и убежденный проповедник грубожестокого, сверхчеловеческого эгоизма» [Сатрапинский, 1916a, 25].
Далее Сатрапинский добросовестно выявляет историю распространения идей Ницше в России. Он отмечает, что основательно с идеями немецкого философа отечественная читающая публика смогла познакомиться не ранее 1892 г., когда в журнале «Вопросы философии и психологии» вышли статьи В. П. Преображенского, Л. М. Лопатина, Н. Я. Грота, П. Е. Астафьева, а затем и Михайловского (в «Русском богатстве»). Тут же он отмечает и публицистический интерес к идеям Ницше в русских журналах, а затем и в художественной литературе (в романах Боборыкина и Вс. Соловьева) [Сатрапинский, 1916a, 26–27].
Далее Сатрапинский упоминает профессора Вениамина Михайловича Хвостова как исследователя Ницше. Хвостов — достаточно известный московский психолог и социолог, сопредседатель Московского психологического общества, учитель Пи-тирима Сорокина. Его упоминание у представителя духовно-академического философского сообщества показывает не только старательность Сатрапинского, но скорее то, что, как и в случае с о. Николаем Петровым, в начале XX в. начинают разрушаться корпоративные рамки практик цитирования. Важнее становится не столько позиционирование различий между «своими» и «не своими (но духовно-академическими)», между «духовно-академическими» и «внешними (светскими)», «своими» и «западными», сколько всесторонний анализ, определенного рода открытость.
В этом смысле в начале XX в. духовно-академическая философия, повлиявшая в 1860–1870-х гг. на формирование русской религиозной философии через Юркевича, Кудрявцева-Платонова, архиеп. Никанора (оказавших влияние на В. С. Соловьева), начинает размыкать рамки, по крайней мере в отношении норм цитирования и составления обзоров литературы.
Так, Петров в своих работах ссылается активно не только на Флоренского, который в определенной степени «свой» — духовно-академический, но и на Лосского, например. Причем нельзя не напомнить о том, что о. П. Флоренского Петров как раз критикует весьма активно. Сатрапинский же цитирует таких авторов, которых в конце XIX в. не стали бы даже упоминать духовно-академические философы. Ссылаясь на Ф. Ф. Зелинского, Сатрапинский указывает на Вячеслава Иванова как поэта-декадента, испытавшего влияние Ницше. Рядом же с Ивановым он упоминает и Бальмонта, Горького, Л. Андреева, Арцыбашева [Сатрапинский, 1916a, 29–30]. Отмечает
Сатрапинский и утверждения Иванова-Разумника и С. Л. Франка о том, что ницшеанство в России — это искажение идей Ницше [Сатрапинский, 1916a, 31]. Тут же Са-трапинский пишет о необходимости богословско-философской оценки идей Ницше в контексте интереса к ним со стороны представителей «так называемого „нового христианства“» — Розанова и Мережковского [Сатрапинский, 1916a, 31–32]. Казанский исследователь ссылается на Волжского (Глинку), а Бердяева упоминает как авторитетного эксперта по «новому религиозному сознанию» [Сатрапинский, 1916a, 32]. Сатарпинский указывает на то, что истоки идей Ницше пытались найти и у киников, и у Канта, и у Маркса [Сатрапинский, 1916a, 32]. И если Кант для духовных академий — фамилия однозначно референтная, то Маркс, по-видимому, к 1916 г. — еще нет.
Но постановка Сатрапинским задачи исследования делается вполне в рамках духовно-академической категоричности: «дать пособие всем православным защитникам христианской веры и нравственности для научно-философской борьбы с грубо-кощунственными и гнусно-циничными выпадами дерзко несдержанного ницшеанского радикализма» [Сатрапинский, 1916a, 36]. Тут же в качестве примечания к столь громкой формулировке задачи указывается, что на необходимости исследования антихристианских мотивов в философии Ницше настаивал архиеп. Антоний (Храповицкий). А это, по сути, прямая отсылка к Несмелову, научному руководителю Сатрапинского, поскольку б о льших единомышленников в философских вопросах, чем В. И. Несмелов и митр. Антоний, в истории Казанской духовной академии найти сложно. В данном случае, воспроизведя штампы церковно-обличительной риторики, Сатрапинский одновременно выразил и уважительное отношение к богослову и иерарху, бывшему ректору Казанской духовной академии. То есть — к вдвойне «своему».
Далее Сатрапинский рассматривает вопрос качества переводов Ницше на русский язык и иностранную исследовательскую литературу, посвященную Ницше. А через один номер «Православного собеседника» продолжение того же текста Сатрапинского выходит под другим названием. Теперь это нейтральное «Философия Ницше в критической литературе».
Тут казанский исследователь не мог обойти вниманием работ Льва Шестова [Са-трапинский, 1916b, 502], статьи в журнале «Вера и разум» Г. Е. Струве [Сатрапинский, 1916b, 512–513] (которого в свое время критиковал за эклектизм Несмелов), работы автора теории «мэонизма» Н. М. Минского о Ницше [Сатрапинский, 1916b, 518]. Далее Сатрапинский характеризует очерки о Ницше М. И. Дубинского, Е. В. Тарле, Н. И. Герасимова, Е. Андреевича (Е. А. Соловьева), Г. Маркелова (в журналах «Вестник Европы», «Мир Божий» и др.) [Сатрапинский, 1916b, 518–522, 525].
Сатрапинский, по сути, делает простой обзор мнений этих статей, при этом статьи выстроены в хронологическом порядке, а следовательно, отечественные исследования перемежаются зарубежными. Так, после Риля, Ричля и Файхингера, Сатрапинский указывает исследование русского социолога-позитивиста Евгения Де-Роберти (которого он обвиняет в тенденциозности в связи с сочувствием к критическим идеям Ницше) [Сатрапинский, 1916b, 523–524].
Из отечественных исследователей философии Ницше далее в работе Сатрапин-ского указываются: Е. Трубецкой, прот. И. Слободской, Н. Я. Абрамович, М. Рогович, П. Юшкевич [Сатрапинский, 1916b, 525–539]. Списком с небольшими комментариями даются Д. Цертелев, В. Козловский, А. Погодин, А. Белый, Д. В. Скрыпченко [Сатрапинский, 1916b, 540-541]. В одном из ключевых разделов своей работы — «III. Сочинения, выдвигающие на первый план отношение философии Ницше к религии и христианству», казанский философ-историограф упоминает только одного отечественного автора — В. И. Экземплярского [Сатрапинский, 1916b, 37–39]. Относительно его работы «Евангелие Иисуса Христа перед судом Фр. Ницше» Сатрапинский замечает, что, с точки зрения Экземплярского, учение Ницше — особый тип понимания христианства. В итоге, как будет видно дальше, именно это и будет указано в качестве основной тенденции понимания Ницше у христианских мыслителей. И именно эту тенденцию Сатрапинский будет считать неверной.
В следующей части исследования Сатрапинского, «IV. Сочинения, рассматривающие философию Ницше со стороны отношения ее к этике», работы отечественных философов и богословов являются преобладающими. Тут рассматриваются оценки Ницше у В. П. Преображенского, В. С. Соловьева (там же упоминаются Лопатин и Астафьев), Михайловского, С. Левитского, Н. Ф. Федорова, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, П. Б. Струве и Н. А. Бердяева, В. М. Хвостова, С. П. Знаменского, Н. Авксентьева, В. Ф. Чижа, М. Мандельштама [Сатрапинский, 1916b, 188–208]. Перечнем указываются труды о Ницше Г. Давыдова, Г. Григорьева, А. Закржевского, Л. Шестова, П. Д. Успенского, Н. Стеллецкого [Сатрапинский, 1916b, 209].
В разделе пятом, посвященном сочинениям, «трактующим об эстетических воззрениях Ницше», указываются и кратко рассматриваются работы А. Л. Волынского, П. Б. Струве, Г. А. Рачинского, а также В. Вересаева, В. И. Иванова, М. Н. Черного [Сатрапинский, 1916b, 319-320]. В шестом разделе, «Сочинения, посвященные сопоставлению философии Ницше с доктриной других мыслителей», Сатрапинский кратко анализирует труды Н. Я. Грота, В. Г. Щеглова, Л. Шестова, А. С. Светлозарова, Д. С. Мережковского, В. А. Никольского, С. Н. Булгакова, Луначарского и Н. Д. Тихомирова, прот. А. В. Смирнова, вновь Л. Шестова, И. Вернера и В. Ф. Саводни-ка, С. Л. Франка, М. Н. Шварца, Д. П. Миртова, Ф. Ф. Зелинского [Сатрапинский, 1916b, 321–340]. Практически в самом конце своей работы Сатрапинский указывает на сопоставление идей К. Н. Леонтьева с философией Ницше у Розанова и Бердяева [Сатрапинский, 1916b, 342].
Весь этот список авторов работ, которых упоминает казанский исследователь, нужен не столько для того, чтобы показать тщательность и даже скрупулезность работы Сатрапинского, но для того, чтобы, с одной стороны, отметить сформировавшееся в начале XX в. в духовно-академической философии признание неакадемической религиозной философии. С другой же стороны, работа Сатрапинского показывает действительно незначительный интерес к Ницше в среде исследователей из духовных академий. По сути, помимо Экземплярского (из Киева), Сатрапинский отмечает работы только выпускников своей Казанской духовной академии: В. А. Никольского (профессора Казанской духовной академии, специалиста по основному и сравнительному богословию) и прот. А. В. Смирнова (богослова, профессора Казанского университета).
Это невнимание к мощнейшим современным течениям общественной мысли со стороны духовно-академической философии объясняется ее преимущественно предвзятой «обличительностью», что присутствует и у Сатрапинского. Так, в конце работы он пишет: «Окидывая общим взглядом рассмотренную нами литературу о философии Ницше, мы видим, что, за единичными исключениями, преобладающий тон этой литературы хвалебный, и она занята скорее популяризацией и пропагандированием ницшеанства, чем его опровержением. Равным образом, и радикальная противоположность философии Ницше христианству здесь очень часто не только не оттеняется, но делаются даже удивительные потуги облечь Ницше в тогу христианского мыслителя. И насколько велика сила психического внушения, видно из того, что исключения в этом отношении не представляют и богословы: они, вместо прямой задачи — борьбы с этим явно антихристианским течением мысли, целуют тот кнут, который бьет их так больно. Поэтому рассеяние этой своеобразной психологической заразы — долг всякого исследователя, стремящегося к объективной оценке идей Ницше» [Сатрапинский, 1916b, 342–343].
Риторика, используемая казанским исследователем, как бы указывает на то, что дальнейшая цель связана не с критическим анализом, а с обличением. И эта обличительная инерция связана с тем, что духовно-академическая философия начинает «отставать» от религиозной философии вне духовных академий. Сложно судить, смог бы Сатрапинский развивать линию и проблематику Несмелова. Его труды были прерваны революцией. Духовная академия прекратила окончательно свое существование в 1921 г. И символом этого стал уход в «обличение» от той концепции критики, которую заложил архиеп. Никанор в Казани еще в конце 1860-х гг. и развил В. И. Несмелов, концепции, сутью которой было не простое обличение, а выявление односторонности в мнениях оппонентов с признанием возможности развития этой односторонности до целостности.
Потому пример не Сатрапинского, а именно прот. Николая Петрова, который развивал тематику и подходы, заданные архиеп. Никанором и В. И. Несмеловым, показывает, что особенностью Казанской духовно-академической школы была не антропологическая проблематика, как часто можно об этом прочитать, но — проблемы доказательства бытия Божия и связи Бога с человеком, обоснование этих доказательств через обращение к современным научным знаниям и философским течениям: к позитивизму — в случае архиеп. Никанора, Снегирева, Милославского и Несмелова, к эмпирической психологии в случае Снегирева и Несмелова, к теории множеств Г. Кантора в случае прот. Николая Петрова.
Список литературы Ученики В. И. Несмелова и философско-теологические исследования в Казанской духовной академии 1910-х гг
- Бердяев (1909) — Бердяев Н.А. Опыт философского оправдания христианства: О книге Несмелова «Наука о человеке» // Русская мысль. 1909. № 9. С. 55-72.
- Ермошин (2016) — Ермошин А., свящ. 60 лет со дня кончины профессора Казанской духовной академии протоиерея Николая Петрова // Православие в Татарстане. URL: https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=59922 (дата обращения: 12.05.2021).
- Ершов (1914) — Ершов М.Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша. Казань, 1914. 228 с.
- Ершов (1915) — ЕршовМ.Н. К характеристике суждений о русской философии // Православный собеседник. 1915. № 11-12. С. 431-436.
- Ершов (1916) — Ершов М.Н. Проблемы религиозно-философской мысли в современной Франции // Православный собеседник. 1916. Февраль-март-апрель. С. 261-307.
- Журавский (1999) — ЖуравскийА.В. Казанская духовная академия на переломе эпох (1884-1921 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. М., 1999. 301 с.
- Игнатий Брянчанинов (1886) — Игнатий (Брянчанинов), свт. Прибавление к слову о смерти // Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 3: Аскетические опыты. Изд. 2-е, исправл. и доп. СПб., 1886. С. 185-311.
- Костомясова (2007) — Костомясова А. В. Матвей Николаевич Ершов // Вече. Альманах русской философии и культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 289-296.
- Милославский (1883) — Милославский П.А. Основания философии как специальной науки. Казань, 1883. Т. I. 443 с.
- Несмелов (1898) — Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1: Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. Казань, 1898. 422 с.
- Несмелов (1906) — НесмеловВ.И. Наука о человеке. Т.2: Метафизика жизни и христианское откровение. Казань, 1906. 440 с.
- Несмелов (1913) — НесмеловВ.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии // Православный собеседник. 1913. Т. I. С. 117-125, 246-262, 590-618, 775-786, 903-926.
- Никанор Бровкович (1876) — Никанор (Бровкович), архиеп. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. СПб., 1876. Т. II. XIV, 402, II с.
- Мальбранш (1914) — Мальбранш Н. Беседа христианского философа с философом китайским о бытии и природе Божества. Казань, 1914. 47 с.
- Петров (1899) — Петров Н.В. Сочинение Оригена «О Началах». Историко-кри-тический очерк. Казань, 1899. 48 c.
- Петров (1909) — Петров Н.В., свящ. Нравственно-религиозное развитие Гоголя. Казань, 1909. 6 с.
- Петров (1912a) — Петров Н.В., прот. Об Антихристе. Казань, 1912. 31 с.
- Петров (1912b) — ПетровН.В., прот. О Святой Троице (Опыт истолкования догмата при помощи аналогий из мира материального и из природы человечества и человека). Казань, 1912. 32 с.
- Петров (1913) — Петров Н. В., прот. На чем основывается религиозная убежденность христианина? (К вопросу о научном характере богословия). Казань, 1913. 25 с.
- Петров (1914) — Петров Н.В., прот. Законы мира и бытие Бога (Номологиче-ское доказательство бытия Божия). Казань, 1914. 16 с.
- Петров (1915a) — Петров Н.В., прот. Жизнь после смерти. Казань, 1915. 88 с.
- Петров (1915b) — Петров Н.В., прот. Об искуплении. Казань, 1915. 79 с.
- Петров (1915c) — Петров Н.В., прот. О юридической и нравственной теориях искупления. Казань, 1915. 12 с.
- Петров (1918) — Петров Н.В., прот. Бесконечное и ничто (Математическое доказательство бытия Божия) // Православный собеседник. 1918. № 1. С. 1-24.
- Сатрапинский (1916a) — СатрапинскийИ.И. Философия Ницше в ее отношении к христианству // Православный собеседник. 1916. Январь. С. 25-40; Февраль-март-апрель. С. 127-143.
- Сатрапинский (1916b) — СатрапинскийИ.И. Философия Ницше в критической литературе // Православный собеседник. 1916. Май-июнь. 501-541; Июль-август. С. 22-39; Сентябрь-октябрь. С. 188-209; Ноябрь-декабрь. С. 319-343.
- Снегирев (1890) — Снегирев В.А. Метафизика и философия // Вера и разум. 1890. № 1, 3, 12, 16.
- Шведа (2020) — Шведа М. Существовала ли «школа Риттера»? Об одной главе из истории философии в Германии // Логос. 2020. № 6. С. 207-233.
- Panaitova, Solovev (2019) — Panaitova P. N., Solovev A. P. Student Philosophical Society of Kazan Theological Academy at the End of the XIX — Early XX Centuries // International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. Vol. 9. Is.1. P. 7456-7459.