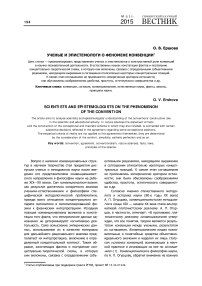Ученые и эпистемологи о феномене конвенции
Автор: Ершова Оксана Владимировна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (21), 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - проанализировать представления ученых и эпистемологов о конструктивной роли конвенций в научно-познавательной деятельности. В естественных науках констатация фактов и построение концептуально-теоретической схемы, в которую они включены, связана с определенными субъективными решениями, находящими выражение в соглашении относительно некоторых концептуальных позиций. К самим этим соглашениям не применяются эмпирические критерии истинности; они обусловлены соображениями удобства, простоты, эстетического совершенства и др.
Конвенция, согласие, конвенционализм, естественные науки, факты, законы, принципы науки
Короткий адрес: https://sciup.org/14114122
IDR: 14114122
Текст научной статьи Ученые и эпистемологи о феномене конвенции
Вопрос о наличии конвенциональных структур в научном творчестве стал предметом дискуссии ученых и методологов науки после введения его представителями конвенционалистского направления в философии науки на рубеже XIX—XX веков. Сам конвенционализм возник как результат достаточно конкретного анализа учеными-естественниками и философами специфической методологической проблематики, прежде всего отношения концептуального аппарата математики и математизированной физики к физическим интерпретациям. Исходная позиция конвенционализма возникла в констатации того факта, что эмпирические данные однозначно не детерминируют когнитивную деятельность. Само осмысление эмпирических данных, использование их в качестве материала для дальнейшего рационального анализа предполагает их интерпретацию, включение в определенный концептуальный контекст. Таким образом, констатация фактов и построение концептуально-теоретической схемы, в которую они включены, связана с определенными субъ- ективными решениями, находящими выражение в соглашении относительно некоторых концептуальных позиций. К самим этим соглашениям не применялись эмпирические критерии истинности; они были обусловлены соображениями удобства, простоты, эстетического совершенства и др.
Согласно мнению отечественного методолога и историка науки (80-е годы XX века) А. П. Огурцова, конвенционалистская методология в конце XIX — начале XX века стала альтернативой платонистскому реализму. А. П. Огурцов, в частности, отмечает: «В противовес пла-тонистскому реализму конвенционализм утверждал, что все понятия, теории являются результатом конвенции между учеными, результатом их соглашения. Конвенционализм лишал познавательные и понятийные средства объективноидеального значения и наделял их лишь статусом условных конвенций, возникающих в научной практике и исчезающих из нее по соглашению» [1]. Конвенционализм в философии науки, по А. П. Огурцову, обратил внимание на важную роль в науке условных соглашений, фикций, согласия в выборе гипотез и методов исследования. По сути дела, в противовес платонистскому реализму конвенционализм представлял собою иную — номиналистическую линию в понимании науки [2].
Родоначальниками конвенционализма считаются А. Пуанкаре, Э. Мах, П. Дюгем — ученые, получившие известность трудами в области физики и математики и через призму в первую очередь этих наук сформировавшие свои взгляды на конвенциональную природу научного знания. Ярким примером взглядов конвен-ционалистов на природу физического знания может служить следующее утверждение П. Дю-гема: «Физическая теория не есть объяснение. Это система математических положений, выведенных из ограниченного числа принципов с целью представить совокупность экспериментальных законов наиболее простым, полным и точным образом» [3]. Другим ярким примером подобных воззрений могут служить слова А. Пуанкаре: «То же самое имеет место в математике: когда я установил определения и постулаты, являющиеся условными соглашениями, всякая теорема уже не может быть только верной или неверной. Но для ответа на вопрос, верна ли эта теорема, я прибегну уже не к свидетельству моих чувств, а к рассуждению» [4].
Философскую направленность идеи кон-венциональности научного знания получили в работах Э. Леруа [5] «Наука и философия», «Новый позитивизм» и позже — в статье К. Ай-дукевича «Картина мира и понятийный аппарат». Следует отметить, что позиция последних авторов была намного более радикальной, чем позиция представителей естественных наук. Согласно Э. Леруа, вся наука — искусственное построение ученых, законы и теории — лишь результат конвенций, факты формируются духом из непрерывной бесформенной данности благодаря символам [6]. Например, Леруа утверждает: «Научные факты являются действительными фактами для исследователя, который их констатирует. Они никоим образом не даны ему извне» [7]. Э. Леруа обращает особое внимание на эвристическую функцию языка в процессе конструирования исследователем законов, истолковывая факт как метафору данного, закон — как метафору фактов, а теорию — как всеобщую схему представления и символический образ, не подвластный ни опыту, ни дискурсивной объективации [8]. Таким образом, «поскольку все теории конвенциональны, тщетно говорить об их объективности, тем более что сам факт конструирует ученый посредством им же определяемых категорий» [9]. Эти положения Э. Леруа о конвенциональном элементе в науке стали основанием крайнего конвенционализма.
В работе «Ценность науки» А. Пуанкаре вступает в полемику с Э. Леруа и посвящает критике его положений целую главу. Критике А. Пуанкаре подверглись следующие положения концепции Э. Леруа: во-первых, то, что «наука состоит из одних условных положений, и своей кажущейся достоверностью она обязана единственно этому обстоятельству»; во-вторых, «научные факты и тем более законы суть искусственное творение ученого»; в-третьих, «наука не в состоянии открыть нам истину, она может служить нам только как правило действия» [10].
Пуанкаре А. последовательно отстаивает тезис о том, что наука не является совокупностью правил действия, основанных на произвольных соглашениях. Обратное утверждение, согласно А. Пуанкаре, приводит к следствию, что наука ничем не отличается от игры, а это в корне неверно. По этому поводу он пишет: «люди, желая развлекаться, установили правила игр… Эти правила могли бы в большей степени, чем сама наука, опираться на такой довод, как всеобщее согласие… Конечно, правило игры в трик-трак есть правило действия, подобно науке, но можно ли считать это сравнение правильным, и не бросается ли в глаза различие?» [11]. Это различие Пуанкаре усматривает, во-первых, в том, что правила игры представляют собой такого рода произвольные соглашения, которые не исключают возможности принятия соглашений противоположного содержания, которые, в свою очередь, могут казаться не хуже; во-вторых, наука есть такое правило действия, которое приводит к успеху тогда, когда противоположное правило не имело бы успеха [12]. А. Пуанкаре иллюстрирует эти утверждения следующим примером: «Когда я говорю: “для добывания водорода действуйте кислотой на цинк”, я формулирую правило, приводящее к успеху. Я мог бы сказать: “действуйте дистиллированной водой на золото”; это было бы также правило, но оно не вело бы к успеху. Таким образом, если научные рецепты имеют ценность как правило действия, то это потому, что в общем и целом они, как мы знаем, имеют успех» [13]. Из этого автор делает вывод: наука может служить правилом действия, но таким, которое позволяет предвидеть и является полезным, то есть дает объективное знание [14].
В этой критике положений Э. Леруа для нас представляет интерес то, как складывается по- зиция самого А. Пуанкаре в отношении эписте-мического статуса научных законов и принципов.
В математических науках, полагает А. Пуанкаре, есть гипотезы, «только кажущиеся таковыми, но сводящиеся к определениям или к замаскированным соглашениям» [15]. К ним можно отнести математические аксиомы; в арифметике, к примеру, к соглашениям А. Пуанкаре относит правила коммутативности, ассоциативности, сложения [16]. Как полагает Пуанкаре, точность математических наук проистекает из этих условных положений. Строгость в математических рассуждениях, по мысли Пуанкаре, обеспечивается определениями. К примеру, «смутная идея непрерывности, которой мы обязаны интуиции, разрешилась в сложную систему неравенств, касающуюся целых чисел» [17]. Эта строгость математической науки придает ей искусственный характер: «видно, как вопросы могут разрешаться, но уже не видно больше, как и почему они ставятся» [18]. В этом случае, пишет А. Пуанкаре, не стоит забывать об историческом происхождении математики.
Кроме того, эти условные положения, по мысли А. Пуанкаре, хотя и являются «продуктом свободной деятельности ума», но не произвольны. В противном случае, пишет А. Пуанкаре, условные положения «были бы бесплодны. Опыт предоставляет нам свободный выбор, но при этом он руководит нами, помогая выбрать путь, наиболее удобный» [19].
Система символов в математике также носит характер соглашений . Пуанкаре пишет, что «разум обладает способностью создавать символы; благодаря этой способности он построил математическую непрерывность, которая представляет собой только особую систему символов. Его могущество ограничено лишь необходимостью избегать всякого противоречия; однако разум пользуется своей силой исключительно в том случае, когда опыт доставляет ему для этого основание. В занимающем для нас случае этим основанием было понятие физической непрерывности, выведенное из непосредственных данных чувственного восприятия. Но это понятие приводит к ряду противоречий, от которых надо последовательно освобождаться. Таким образом, мы вынуждены воображать все более и более усложненную систему символов» [20]. Но, как замечает А. Пуанкаре, воображать символы без возможного их применения не следует, творческая конструирующая способность субъекта познания должна здесь стимулироваться опытом.
Пуанкаре, наряду с произвольно принятыми определениями, указывал на наличие в матема- тическом знании неких интуитивно постигаемых самоочевидных истин. В арифметике, по мнению автора, к интуитивно постигаемым самоочевидным истинам относится интуиция чистого числа, которая может привести исследователя к аксиомам следующего рода: «Если теорема справедлива для 1 и если доказывается, что она справедлива для n+1, когда справедлива для n, то она будет справедлива для всех целых чисел» [21]. Эти самоочевидные истины, по мысли А. Пуанкаре, — основа строгого достоверного математического умозаключения. К примеру, он пишет: «В новейшем анализе находят место лишь силлогизмы и обращения к этой интуиции чистого числа, единственной интуиции, которая не может обмануть нас. Можно сказать, что ныне достигнута абсолютная строгость» [22].
Таким образом, согласно Пуанкаре, в математическом знании присутствуют не только произвольно принятые определения или соглашения, но и самоочевидные интуитивно постигаемые истины, носящие общезначимый характер ( математическая индукция , интуиция чистого числа и т. п.). Отечественные эпистемологи С. Н. Коськов и С. А. Лебедев полагают, что признание А. Пуанкаре существования истин, опирающихся на интуицию, с необходимостью навязываемых всякому математику в процессе доказательства выстраивает линию оппозиции логицистам (Рассел, Уайтхед, Кутюра) и ставит предел догматическому конвенционализму в его трактовке природы математических аксиом и суждений [23].
В геометрии характер условных соглашений носят аксиомы геометрии, которые «суть не более чем замаскированные определения» [24]. Аксиомы геометрии, по А. Пуанкаре, в отличие от аксиом арифметики и принципов физики, не являются ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными фактами. Выбор субъектом познания (ученым) конвенциональной системы аксиом среди всех возможных осуществляется, по А. Пуанкаре, свободно, но ограничивается необходимостью соблюдать непротиворечивость и руководствоваться при выборе соглашений опытными фактами [25]. В этом ключе системы аксиом геометрии оцениваются не в категориях истинности, а в категориях удобства. А. Пуанкаре пишет: «Никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая; та или иная геометрия может быть только более удобной» [26]. К примеру, евклидова геометрия более удобна по следующим причинам: она проста; она согласуется со свойствами реальных твердых тел. Таким образом, постулаты Евклида являются удобными соглашениями, опирающимися на опыт [27].
В отношении роли опыта при выборе соглашений в геометрии А. Пуанкаре делает ряд замечаний. Опыты в геометрии, в отличие от опытов в физике, имеют свою специфику, которая заключается в том, что опыты геометрии «относятся к вещам, которые не имеют ничего общего с объектами изучения геометрии, они относятся к свойствам твердых тел, к прямолинейному распространению света. Это — опыты механические и оптические; их отнюдь нельзя рассматривать как опыты геометрические. Напротив, основные соглашения механики и те опыты, которыми доказывается их удобство, относятся к одним и тем же или аналогичным предметам. Эти условные и общие принципы являются естественным и прямым обобщением принципов экспериментальных и частных» [28].
Свой анализ А. Пуанкаре распространяет также на эпистемический статус принципов и законов классической механики, рассматривая закон ускорения свободного падения и правило сложения скоростей. При этом автор подчеркивает необходимость учета их генезиса: «В точке отправления мы видим опыт, имеющий весьма частное значение… в конечной точке имеем совершенно точный закон, достоверность коего мы принимаем за абсолютную истину. Этой достоверностью наделили его мы сами, — так сказать, по доброй воле, — рассматривая его как результат соглашения» [29]. По мнению А. Пуанкаре, соглашения неминуемо приобретут статус произвольных в том случае, если ученые не будут брать в расчет опыт, который привел к их принятию и является их обоснованием [30].
Принципы механики в этой связи приобретают двойной статус: с одной стороны, они — «истины, обоснованные опытом, подтверждающиеся весьма приближенно для систем почти изолированных. С другой стороны, это — постулаты, которые прилагаются ко всей Вселенной и считаются строго достоверными» [31]. Принципы механики (постулаты), в отличие от экспериментальных фактов, из которых они извлекаются, обладают общностью и достоверностью. Это возможно благодаря тому, что в результате анализа они сводятся к простому соглашению, которое, во-первых, не должно быть в противоречии ни с каким опытом, и, во-вторых, оказаться удобным для использования. Таким образом, согласно Пуанкаре, экспериментальный закон в процессе обобщения может быть «возведен в ранг принципов», которым ум приписывает абсолютное на основе соглашений, которые сохраняют истинность теоретических высказываний [32].
Установленный конвенциональный принцип может быть пересмотрен субъектом познания в том случае, если он перестает быть плодотворным и полезным, то есть не предвидит новые явления. В этом случае «опыт, не противореча ему непосредственно, тем не менее, осудит его» [33].
В более поздней своей работе «Ценность науки» Пуанкаре анализирует генезис законов физики, и здесь интересно отметить используемый им прием разложения физического закона на собственно закон и принцип. Этот прием иллюстрируется следующим примером: «Мы можем разложить предложение: “(1) небесные тела подчиняются закону Ньютона” на два других; “(2) тяготение следует закону Ньютона”; “(3) тяготение есть единственная сила, действующая на небесные тела”. В таком случае предложение (2) есть простое определение и оно ускользает от опытной проверки, но тогда можно будет подвергнуть проверке предложение (3). Это, конечно, необходимо, ибо вытекающее из него предложение (1) предсказывает голые факты, допускающие проверку» [34]. При этом ученые «в духе неосознанного номинализма» способны посредством обобщения возвысить закон, достаточно подтвержденный опытом, в ранг принципов, «принимая при этом такие соглашения, чтобы предложение было несомненно истинным. В итоге мы имеем принцип строгий и точный и закон, который может быть пересмотрен» [35]. При этом сколько бы ни проводилось такое разложение, место законам останется всегда, и этим утверждением А. Пуанкаре очерчивает границы номинализму Э. Леруа.
Несмотря на свое критическое отношение, А. Пуанкаре дает номинализму право на существование и оправдывает ученых, встающих на позиции номинализма из прагматических соображений. В частности, замечает он, ученые прибегает к номинализму, когда необходимо в изучении каких-либо объектов заменить сложные отношения между телами на более простые отношения между пространственными образами этих тел. «Этот путь выгоден, потому что отношение между А и В было сложным, но мало отличалось от отношения А* и В*, отличающегося простотой; следовательно, это сложное отношение может быть заменено простым отношением А* и В*. Например, если А и В будут два естественных твердых тела, которые перемещаются, слегка деформируясь, то мы будем рассматривать два неизменных подвижных образа А* и В*. Законы относительных перемещений этих образов А* и В* будут весьма просты; это будут законы геометрии» [36]. Данный прием, подчеркивает Пуанкаре, позволяет избежать чрезмерного усложнения описания физической картины и во многих случаях оправдан.
В работе «Эпистемология ценностей» Л. А. Микешина заключает, что в результате этой операции предметное знание было преобразовано в методологический регулятив, понимание природы которого и функций обусловлено определенными конвенциями, договоренностями ученых. Принципы физики (например, принцип сохранения массы, принцип относительности) — суть результат опытов, обобщенных в сильной степени; но, по-видимому, сама их общность придает им высокую степень достоверности [37]. Полученный таким образом методологический регулятив (принцип) не подчинен опытной проверке, он просто удобен.
Пуанкаре А., осознавая методологическую важность этой операции, отмечает, что законы, на основе которых сформулированы принципы, должны сохранять свой статус. Тем самым А. Пуанкаре возражает тем методологам, для которых наука состоит из одних условных положений, а научные факты и тем более законы трактуются как искусственные творения ученого [38]. А. Пуанкаре пишет: «Некоторые преувеличивали роль условных соглашений в науке; они дошли до того, что стали говорить, что закон и даже научный факт создаются учеными. Это значит зайти слишком далеко по пути номинализма. Нет, научные законы — не искусственные изобретения; мы не имеем никаких оснований считать их случайными…» [39]. Таким образом, французским математиком осознавалась значительная роль эмпирического компонента в обосновании соглашений в научном познании.
Для понимания взглядов А. Пуанкаре важна также его классификация фактов, которые автор делит на «голые» и «научные». Пуанкаре критически анализирует утверждение Э. Леруа о том, что ученый создает факт [40]. Ученый, согласно А. Пуанкаре, способен создавать научный факт, но его свобода творчества ограничена тем, что ученый «вырабатывает его с помощью голого факта», то есть первичного эмпирического материала [41]. «Голый», индивидуальный факт может быть выражен определенным числом терминов посредством речи. Пуанкаре пишет: «Когда я, например, говорю “единица длины есть метр”, это — решение, которое я принимаю, а не констатация, которая мне предписывается» [42]. Конвенциональный характер в данном случае носит язык науки, посредством которого излагаются факты. Язык науки представляет некую систему категорий, имеющую статус соглашения, в соответствии с которой факты расписываются.
Пуанкаре А. делает ряд замечаний о статусе «голого факта» и «научного факта». Если соотношения между «голыми» фактами, согласно А. Пуанкаре, характеризуются некоторыми инвариантными законами, то соотношения между «научными фактами» всегда остаются в зависимости от некоторых условных соглашений [43]. Свидетельством, этого инвариантного закона является, по мысли А. Пуанкаре, наличие правил перевода с одного языка науки на другой. К примеру, существуют правила перевода евклидова языка на неевклидов, и «если бы их не было, то их можно было составить» [44]. С. Н. Коськов полагает, что тезис об инвариантных законах как связях «голых фактов» свидетельствует также о том, что «в самой природе существует некие постоянные устойчивые связи явлений, которые сначала фиксируются обыденным сознанием и лишь затем получают теоретическую форму выражения в физической науке» [45].
Таким образом, согласно А. Пуанкаре, «…вся творческая деятельность ученого по отношению к факту исчерпывается высказыванием, которым он выражает этот факт. Если он предсказывает какой-нибудь факт, он употребит это высказывание, и его предсказание будет совершенно недвусмысленно для всех тех, кто умеет употреблять и понимать язык науки. Но раз ученый сделал это предсказание, то, очевидно, не от него зависит, осуществляется ли оно или нет» [46].
Коськов С. Н., методолог науки, представитель методологического конвенционализма, полагает, что конвенционализм как философское направление правильно подчеркивает условный характер и конвенциональный способ построения научных языков, и что язык науки является тем каналом, через который конвенции проникают в научное знание, но придает этому каналу самодавлеющее значение. Эта особенность конвенционализма связана с пренебрежением эмпирическими компонентами как основными регуляторами процесса научного познания и одновременно явным сужением числа факторов, определяющих формирование научных принципов, а, кроме этого, рассмотрением науки вне контекста развития [47]. Поэтому конвенциональные элементы научной коммуникации — это не результат произвола субъекта научной деятельности, а отражение объективно сложившихся условий функционирования науки или тен- денций, содержание которых оформляется при развитии науки.
-
1. Огурцов А. П. Философия науки. Вып. 6. Т. 6. М., 2000. С. 205.
-
2. Там же. С. 205.
-
3. Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. М. : КомКнига, 2007. С. 25.
-
4. Пуанкаре А. О науке. М. : Наука, 1983. С. 258.
-
5. Эдуард Леруа (1870—1954) — французский философ и математик, религиозный философ, представитель католического модернизма, последователь А. Бергсона, друг и единомышленник П. Тейяра де Шардена. В 1892 г. поступил в Высший педагогический институт (Ecole Normale) на отделение естественных наук. В 1895 г. ему была присвоена степень агреже математики, а через три года он защитил докторскую диссертацию. После защиты преподавал математику в различных парижских учебных заведениях. В 1921 г. Э. Леруа сменил А. Бергсона на кафедре философии в Коллеж де Франс, где преподавал до 1941 г. Член Академии моральных и политических наук с 1919 г., член Французской Академии с 1945 г.
-
6. Огурцов А. П. Указ. работа. С. 188.
-
7. Там же. С. 188.
-
8. Там же. С. 205.
-
9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_ Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/_10.php.
-
10. Пуанкаре А. Указ. работа. С. 252.
-
11. Там же. С. 255.
-
12. Там же.
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Там же. С. 8.
-
16. Там же. С. 27.
-
17. Там же. С. 162.
-
18. Там же. С. 165.
-
19. Там же. С. 8.
-
20. Там же. С. 24.
-
21. Там же. С. 163.
-
22. Там же. С. 164.
-
23. Коськов С. Н. Конвенционализм и проблемы современной философии науки // Среднерусский вестн. общественных наук. 2009. № 3. С. 7.
-
24. Пуанкаре А. Указ. работа. С. 41.
-
25. Там же. С. 40.
-
26. Там же. С. 89.
-
27. Там же.
-
28. Там же.
-
29. Там же. С. 75.
-
30. Там же.
-
31. Там же.
-
32. Там же. С. 90.
-
33. Там же. С. 251.
-
34. Там же. С. 264.
-
35. Там же.
-
36. Там же. С. 265.
-
37. Там же. С. 236.
-
38. Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М. : РОССПЭН, 2007. С. 118.
-
39. Пуанкаре А. О науке. М. : Наука, 1983. С. 158.
-
40. Там же. С. 256.
-
41. Там же. С. 261.
-
42. Там же.
-
43. Там же. С. 268.
-
44. Там же. С. 267.
-
45. Коськов С. Н. Конвенционализм и проблемы современной философии науки // Среднерусский вестн. общественных наук. 2009. № 3. С. 7.
-
46. Там же. С. 261.
-
47. Коськов С. Н. Философия науки и конвенционализм . URL: http://mini-portal.ru/philos/2_1-3.html .
Список литературы Ученые и эпистемологи о феномене конвенции
- Огурцов А. П. Философия науки. Вып. 6. Т. 6. М., 2000. С. 205
- Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. М.: КомКнига, 2007. С. 25.
- Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983. С. 258.
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/_10.php.
- Коськов С. Н. Конвенционализм и проблемы современной философии науки//Среднерусский вестн. общественных наук. 2009. № 3. С. 7
- Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М.: РОССПЭН, 2007. С. 118
- Коськов С. Н. Конвенционализм и проблемы современной философии науки//Среднерусский вестн. общественных наук. 2009. № 3. С. 7
- Коськов С. Н. Философия науки и конвенционализм. URL: http://mini-portal.ru/philos/2_1-3.html