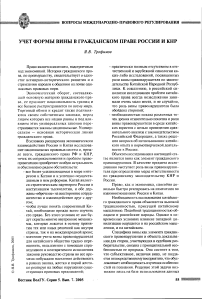Учет формы вины в гражданском праве России и КНР
Автор: Трофимов Я.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы международно-правового регулирования
Статья в выпуске: 7, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972593
IDR: 14972593
Текст статьи Учет формы вины в гражданском праве России и КНР
Право является явлением, надстроечным над экономикой. История гражданского права, по преимуществу, свидетельствует о единстве всемирно-исторического развития и о стремлении народов к общению на почве одинаковых правовых норм.
Экономический оборот, составляющий основную материю гражданского права, не признает национальность границ и все больше распространяется по всему миру. Торговый обмен и кредит также подчиняются своим собственным законам, перед лицом которых все нации равны и под влиянием этих универсальных законов перестраиваются законы национальные. Универсализм — основная историческая линия гражданского права.
В условиях расширения экономического взаимодействия России и Китая исследование национальных правовых систем и, прежде всего, гражданского права РФ и КНР, точек их соприкосновения и проблем правоприменения приобретает особую актуальность и обусловлено рядом обстоятельств:
-
- все более усиливающимся в мире интересом к Китаю и к успешно осуществляемым в нем реформам. Китай является стратегическим партнером России в наступившем тысячелетии, и обе державы «обречены» на всестороннее сотрудничество и взаимодействие друг с другом;
-
- чтобы лучше понять современный Ки-. тай, необходимо прежде всего изучить его право. Без этого условия от нас будут скрыты многие внутренние механизмы, которые ложатся в основу приня-■ тия тех или иных решений как внутри страны, так и на международной арене;
-
- значение учета вины правонарушителя для китайского общества трудно переоценить, ведь именно с помощью справедливого и неотвратимого исполнения законов руководство страны во все времена побуждало население действовать в рамках закона, жестко и порой жестоко реагируя на любые нарушения существующих правовых предписаний;
-
- практически полным отсутствием в отечественной и зарубежной синологии каких-либо исследований, посвященных роли вины правонарушителя по законодательству Китайской Народной Республики. К сожалению, в российской синологии исследования проблем китайского права всегда незаслуженно занимали очень мало места, и не случайно, что роль вины правонарушителя была обойдена стороной;
-
- необходимостью показа различных точек зрения относительно понятия и роли вины правонарушителя в среде китайских юристов с целью проведения сравнительного анализа с законодательством Российской Федерации, а также решения вопроса об использовании китайского опыта в нормотворческой деятельности в России.
Объектом исследования в настоящей статье является вина как элемент гражданского правонарушения. В качестве предмета исследования выступает роль вины правонарушителя при определении меры ответственности по гражданскому законодательству КНР и России.
Право, как и экономика, способно довольно быстро реагировать на изменения во взаимоотношениях России и Китая.
Необходимость исследования китайского гражданского права объясняется высокой традиционностью, присущей китайскому мышлению. Подобной традиционностью обладали и российские народы. Однако в современных условиях влияние западной цивилизации ощущается и на российском мышлении, и на китайском.
Специфика вины как элемента гражданского правонарушения и объекта доказывания для сторон, участвующих в судебном разбирательстве, связана с принципиальной особенностью ее природы. Она состоит в том, что субъективное, включая вину, не поддается непосредственному восприятию, что обусловливает необходимость изучения особенностей ее познания. Решение этой задачи возможно лишь на базе использования данных общей и правовой (юридической) психологии, к которым относятся общенаучные положения: ;
-
- о соотношении сознания и деятельности в волевом поведении личности;
-
- о функциях сознания лица в мотивации и регуляции (управлении) своими действиями (включая и противоправные);
-
- о действии и деятельности как структурных единицах противоправного поведения, на базе которых происходит выявление их субъективной (психической) стороны.
В теории права вина, как психическое отношение к совершенному, рассматривается в понятиях, относящихся к различным сферам психики личности, а именно: в качестве элементов сознания (так называемые интеллектуальные элементы) и в качестве элементов воли (волевые элементы). В познавательном плане установление вины происходит в рамках конкретных единиц поведения (противоправного действия или деятельности) и психологических элементов их структур (мотива, цели, принятого решения, плана совершения противоправного действия).
Для умышленных правонарушений характерны три направления психической регуляции лицом своего противоправного поведения:
-
1) знание (на уровне общежитейской осведомленности) отдельных особенностей объекта посягательства;
-
2) сознательно-волевое отношение (в виде субъективного выбора и целевого использования) к отдельным элементам правонарушения;
-
3) психические элементы, определяющие особенности субъективной регуляции поведения — мотив и цель.
Таким образом, главное, что входит в объем психического отношения, образующего вину как объект познания — это отношение к наступившим последствиям противоправного поведения и психическое отношение к особенностям объекта посягательства, а также конкретные психические регуляторы преступного поведения.
Проблема вины требует четкого понимания вопроса о соотношении субъективного и объективного применительно к структуре противоправного поведения. Выделение этих понятий имеет двоякое значение:
-
- философское, когда субъективное и объективное рассматриваются в свете теории отражения и соотношения мате
риальной действительности и ее идеальных форм отражения; , .
-
- практическое, применяемое при анализе структуры конкретных преступных действий, когда субъективная (психическая) активность личности уже реализовалась в объективной противоправной деятельности.
Психологический механизм входит в структуру любой индивидуально-волевой деятельности. Он включает механизмы мотивации и регуляции поведения, имеет универсальное значение, в том числе применительно к противоправным (умышленным и неосторожным) видам поведения. Взаимосвязь психологического механизма и субъективной стороны правонарушения проявляется в общности их структур, состоящей из трех блоков: мотивации поведения, его субъективной регуляции, отношения к содеянному и наступившим результатам. Познавательное (доказательственное) значение имеет установление всех трех блоков. Поскольку только взятые в совокупности они дают полное представление о реальном психологическом механизме совершения правонарушения, а также о генезисе противоправной деятельности и особенностях формирования противоправного умысла правонарушителя.
Китайскому законодательству, в отличие от российского, не известно «эмоциональное состояние лица в момент совершения правонарушения», как один из признаков субъективной стороны состава правонарушения. В целом же стоит признать тот факт, что по проблеме основания юридической ответственности и обязательных признаков состава правонарушения китайская и отечественная юридическая наука стоят практически на одинаковых позициях, что значительно упрощает исследование поставленных вопросов со стороны отечественных синологов.
С юридической точки зрения действие представляет собой выражение воли — зрелой и сознательной. Поэтому в основании гражданского правонарушения лежит вина, все равно умышленная или неосторожная. Если лицо, причинившее вред, не желало бы такого последствия, не могло и не должно было предвидеть возможность его наступления, то нет вины с его стороны, а есть только случай.
К сожалению, учение о вине незаслуженно усеченно исследуется теорией российского гражданского права, получив свою фундаментальную разработку лишь в уголов- ном праве. Причем учение о вине является одним из основополагающих элементов теории российского уголовного права. Без вины не может быть уголовной ответственности по российскому уголовному праву. При этом правильное понимание вины имеет большое значение в борьбе за укрепление законности. Похожий подход к вине наблюдается и в уголовном праве Китая.
В праве России и в праве КНР осуществление правосудия основано на материалистическом мировоззрении. Задача правоприменителя — установить объективную истину по делу, без чего не могут быть осуществлены цели правосудия. Важной частью этого является установление вины определенного лица в совершенном правонарушении или преступлении. Для материалиста истина — это правильное отражение внешнего мира в сознании человека.
Суд в своем решении или приговоре должен правильно отобразить определенное явление внешнего мира — реально существующую вне сознания судьи вину обвиняемого или правонарушителя в совершении гражданского правонарушения или преступления. Вина определенного лица в совершении правонарушения существует независимо от того, познана она или не познана судебными органами. Материализм признает не только существование внешнего мира независимо от сознания человека, но и познаваемость внешнего мира. Поэтому вина определенного лица может быть познана.
При разработке проблемы вины китайская правовая теория исходит из положений марксистского философского материализма и конфуцианского учения.
Уголовное право Китая, как и России, исходит из того, что для признания лица виновным недостаточно установить, что это лицо совершило рассматриваемое деяние. И право России, и право Китая не знает так называемого объективного вменения, то есть вменения в ответственность деяния лишь на основе установления факта его причинения данным лицом. Уголовное законодательство требует, чтобы для признания лица виновным было обязательно установлено умышленное или неосторожное совершение им общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, то есть установления в его действиях определенного состава преступления.
Вина есть психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершенному деянию. Умысел и неосторож- ность при совершении гражданского правонарушения или уголовного преступления в реальной жизни всегда наполнены определенным материальным содержанием. Поэтому в конкретных умышленных противоправных действиях находит свое выражение противоправный умысел. Кроме того, вина есть не просто психологическое понятие, но понятие социально-политическое.
Гражданский закон, по общему правилу, не дифференцирует объема ответственности в зависимости от формы вины правонарушителя. Полностью возместить вред обязан как тот причинитель вреда, который действовал преднамеренно (умышленно), так и тот, кто причинил соответствующий имущественный вред по неосторожности.
Однако в современном российском гражданском законодательстве вина или форма вины напрямую влияет на применение тех или иных правовых последствий недействительности сделок. Мы говорим о ст. 169 ГК РФ, ч. 2 которой упоминает о правовых последствиях при наличии умысла у обеих сторон сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, а ч. 3 — о правовых последствиях при наличии умысла лишь у одной стороны такой сделки.
Ст. 171 ГК РФ также устанавливает повышенный объем ответственности, если дееспособная сторона по сделке знала или должна была знать о недееспособности другой стороны, то есть действовала умышленно. Ст. 178 ГК РФ определяет, что сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны.
Учет формы вина мы наблюдаем и в ст. 173 ГК РФ, которая называет основанием для признания сделки недействительной, помимо ее совершения в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в учредительных документах юридического лица либо без лицензии на занятие соответствующей деятельностью, доказанность того факта, что контрагент знал или заведомо должен знать о незаконности сделки.
Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в том случае, если будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об этом (ст. 174 ГК РФ).
Гражданское право КНР характеризуется тем, что в меньшей мере учитывает форму вины правонарушителя. Общие положения гражданского права, принятые на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 12 апреля 1986 г., не рассматривают форму вины при определении меры ответственности правонарушителя.
В ст. 120 Закона КНР «О договорах», принятом 2-й сессией Всекитайского собрания народных представителей девятого созыва 15 марта 1999 г., упоминается лишь о том, что в случае нарушения договора обеими сторонами они обязаны нести ответственность соразмерно степени вины каждой, но не говорится об учете формы вины правонарушителя1.
Однако китайский правоприменитель, взаимодействуя с российским, учитывает такое понятие, как форма вины.
Приведем пример из существующей практики применения положений вышеупомянутой ст. 174 ГК РФ во взаимоотношениях субъектов гражданского права России и КНР. Когда китайская организация предъявила иск к российской организации, с которой она заключила в июне 1993 г. договор консигнации об оплате реализованных товаров и возврате или оплате стоимости нереализованных товаров, переданных в счет этого договора, о прекращении договора и возмещении расходов по судебному разбирательству. Ответчик, то есть российская сторона, не отрицал факта получения им по договору товаров и частичной их реализации, однако оспаривал акт от 11 мая 1995 г., ссылаясь на его подписание неуполномоченным лицом и на необоснованность размера требований истца. Ответчик, ссылался на то, что по положениям его устава предусмотрено подписание документов, подобных акту от 11 мая 1995 г., двумя лицами, а не одним, как это было в действительности.
Международный коммерческий арбитраж не счел возможным согласиться с этим аргументом, так как согласно ст. 174 ГК РФ недействительность сделки может быть признана лишь по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, и при этом будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. Названные предпосылки в настоящем арбитражном разбирательстве отсутствуют (дело № 221/1995, решение от 02.12 1996 г.). Подобное решение было принято 25 августа 1997 г. по делу № 326/1996, где было отклонено ходатайство ответчика — российской стороны — о признании недействительным совместного акта сторон со ссылкой на то, что он подписан неуполномоченным лицом, поскольку этот акт был составлен на основании протокола совещания сторон и на него неоднократно ссылался ответчик. Иск китайской организации был удовлетворен2. Таким образом, знание об учете формы вины в российском праве помогло китайской стороне выиграть предъявленные иски.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что при анализе особенностей китайского гражданского права необходимо иметь в виду, что его развитие носит отчетливо выраженный противоречивый характер. Поясним, правовое регулирование, разработанное и осуществляемое на основе новейших юридических достижений с учетом интернационализации экономической деятельности и международного разделения труда, сочетается здесь с сохранением национально ограниченных, консервативных форм правового регулирования.
Список литературы Учет формы вины в гражданском праве России и КНР
- Современное законодательство Китайской Народной Республики: Сб. нормативных актов/Под ред. Л.М. Гудошникова. М.: ИКД Зерцало-М, 2004. С. 169, 197.
- Арбитражная практика за 1996-1997 гг./Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 125, 216, 258.