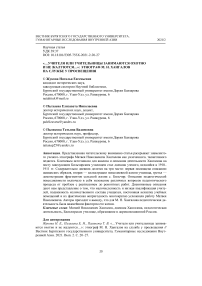"...Учителя или учительницы занимаются охотно и не жалуются.": этнограф М. Н. Хангалов на службе у просвещения
Автор: Жукова Наталья Евгеньевна, Палхаева Елизавета Николаевна, Паликова Татьяна Вадимовна
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Представленная читательскому вниманию статья раскрывает знаменитого ученого-этнографа Матвея Николаевича Хангалова как увлеченного, талантливого педагога. Ключевым источником для анализа и описания деятельности Хангалова на посту заведующим Бильчирским училищем стал дневник ученого, ведшийся в 19101911 гг. Содержательно дневник делится на три части: первая посвящена описанию шаманских обрядов, вторая - иллюстрации повседневной жизни училища, третья - демонстрации фрагментов сельской жизни с. Бильчир. Описание педагогической повседневности включало в себя изложение различных вопросов педагогического процесса от проблем с расписанием до ремонтных работ. Дневниковые описания дают нам представление о том, что малочисленность и низкая квалификация учителей, подвижность количественного состава учащихся, постоянная нехватка учебных помещений и их фактическая непригодность многократно усложняли работу Матвея Николаевича. Авторы приходят к выводу, что для М. Н. Хангалова педагогическая деятельность была важнейшим фактором его жизни.
Матвей николаевич хангалов, дневник хангалова, педагогическая деятельность, бильчирское училище, образование в дореволюционной России
Короткий адрес: https://sciup.org/148323380
IDR: 148323380 | УДК: 39:37 | DOI: 10.18101/2305-753X-2021-2-20-27
Текст научной статьи "...Учителя или учительницы занимаются охотно и не жалуются.": этнограф М. Н. Хангалов на службе у просвещения
Жукова Н. Е., Палхаева Е. Н., Паликова Т. В. «…Учителя или учительницы занимаются охотно и не жалуются…»: этнограф М. Н. Хангалов на службе у просвещения // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2021. Вып. 2. С. 20‒27.
Матвей Николаевич Хангалов — выдающийся ученый-этнограф, собиратель бурятского фольклора, предметов бытовой культуры бурят. Составленные Хан-галовым коллекции, его письма и дневники дают представление о жизни и деятельности бурят рубежа XIX–XX вв. О вкладе ученого в процесс накопления этнографических знаний рассказано много и обстоятельно исследователями в советский и постсоветский периоды. Биографические подробности и научные изыскания Хангалова стали предметом изучения Е. М. Залкинда [2], М. П. Хама-ганова [5], Р. И. Шерхунаева [6], И. А. Малсахановой [3] и других.
В меньшем объеме освещена деятельность Матвея Николаевича как педагога, радеющего о просвещении населения своего родного края. Педагогическая и просветительская деятельность была столь же органична для Хангалова, как и научная работа, которой он посвятил большую часть жизни. Хангалов работал семь лет в Кудинском училище, затем в Закулейском и в 1902–1918 гг. — учителем и заведующим Бильчирским приходским училищем.
В жизни Хангалова были две профессиональные страсти — наука и преподавание, которым он отдавался всей душой, что зафиксировано в его личных дневниках. Здесь стоит отметить, что теме семьи, родственных и дружеских связей в дневнике было уделено значительно меньше внимания. Эта источниковая характеристика позволяет утверждать, что Хангалов самоидентифицировал себя прежде всего ученным и педагогом.
При этом необходимо понимать, что для Матвея Николаевича педагогическая деятельность, в отличие от научной, являлась средством заработка, обеспечивающим более чем скромное материальное положение его семьи. В одном из писем Д. А. Клеменцу Хангалов писал: Вы Дмитрий Александрович, знаете, что я бедный народный учитель, получающий в месяц 40 руб., ныне свою единственную дочь отдал в женскую гимназию и пришлось платить за квартиру и содержание до рождества по 35 руб., а после рождества — по 30 руб в месяц. Подобная плата мне не по силам, а потом я решился и подал прошение, чтоб меня приняли сидельцем в казенную винную лавку 1-го разряда, чтоб дать дочери образование, а в свободное время докончить материал и научиться фотографии. Через три или четыре года снова выехать к бурятам, опять учителем куда-нибудь в захолустье Верхоленского или Иркутского уезда [2, с. 29].
Придя под влиянием обстоятельств к пониманию того, что педагогическая работа не влечет за собой материального благополучия, Матвей Николаевич готов был искать заработок вне любимой профессии. Но вместе с тем он представлял себе этот шаг как временное отступление от учительства ради семьи с тем, чтобы вернутся к нему опять. Впоследствии Матвей Николаевич до конца жизни работал в Бильчирском приходском училище.
Работая с дневниками, от написания которых нас отделяет значительное временное расстояние, мы задаем себе вопросы: какова цель написания дневника? Предполагал ли автор, что его записи будут опубликованы? А стало быть, в какой степени сведения, представленные в дневнике, являются объективными? В случае с исследуемым дневником ответить на подобные вопросы достаточно сложно. Не будет ошибкой допустить, что описание педагогических будней, являлось для Матвея Николаевича формой профессиональной саморефлексии, осмысления накопленного опыта в каждодневном формате. Комплексное изуче- ние дневника позволило нам предположить, что в семье Хангаловых педагогический труд ее главы не был предметом детального обсуждения, в связи с чем свои переживания, мысли и рассуждения Матвей Николаевич доверял страницам дневника. В дневниковых записях Хангалов констатировал чаще организационную работу, чем собственно педагогическую, снабжая их некоторыми оценочными моментами.
Живо реагируя на проблемы повседневной училищной жизни, Хангалов ни на минуту не упускал из виду целостную картину народного образования, фиксируя проблемы настоящего, думал о будущем, о чем свидетельствуют неоднократные записи. Описывая один из обычных учебных дней 2 октября 1910 г., он пишет: Сегодня учащихся было не особенно много. — Учитель Хазагаев приехал поздно и неохотно принялся за дело; у него было более 20 человек. — Учитель Зареченсков не пришел; у него было 18 учащихся, которые посидели и посидели ушли; бедные дети! Учитель Хазагаев сделал только один урок и уехал купить телегу. С такими педагогами бурятское народное образование пойдет не особенно успешно 1. В записи от 8-го октября 1910 г. читаем: сегодня число учащихся увеличилось. У учителя Хазагаева 29 учащихся и у учителя Зареченскова 28 учащихся и еще будут, потому что ученики 5-го отделения не все пришли и продолжает: Зареченсков уже отказывался более не принимать учащихся. — Я долго с ним спорил и наконец пришлось постыдить его, что он на словах гуманный человек, а на деле совсем другое выходит . Противопоставляя Зареченскова другим учителям, Хангалов добавляет, что многие учителя занимаются не удобных в частных квартирах, в которых потолки низки, витком [битком] набиты учащимися, кому-то пройти негде; а все-таки эти учителя или учительницы занимаются охотно и не жалуются [на] тесноту и на не достаток воздуха 2.
Очевидно, что учебный процесс в Бильчирском училище не являлся строго организованной системой, дисциплину в нем нарушали как учащиеся, так и учителя. Как видно из приведенных фрагментов текста, учителя позволяли себе не приходить на уроки и отменять их, занимаясь личными делами, что, на наш взгляд, вполне закономерно, учитывая их низкую профессиональную квалификацию, невысокую заработную плату, дополнительные сельскохозяйственные нагрузки, которые были характерны для всех жителей сельской местности начала XX в.
Еще раз обратим внимание читателя, что боль за будущее бурят, их тяга к образованию и желание максимально ответить на это стремление — лейтмотив всех записей подвижника народного образования. В этой заботе о будущем проглядывается еще один важнейший, с точки зрения Матвея Николаевича, мотив — положение самой школы и учителя в ней. Неоднократно Хангалов принимал участие в «отводе школьного участка земли». Этому мероприятию посвящена запись от 19 сентября 1910 г., демонстрирующая несколько позиций по отношению к школе. Нас в большей степени заинтересовала позиция общества, стремящегося выделить не самый благополучный участок (сначала где-то на горе под пашню, затем, после уговоров, на лугу сенокосное место, но только указывали плохое место и только после очередного увещевания Хангалов с трудом уговорил доверенных отвести место около ныняшнего училища. Доверенные не охотно согласились), свидетельствующая о непонимании общества, что материальная база так же важна для успешной постановки учебного процесса, как и наличие квалифицированного учителя. Справедливости ради отметим, что не каждое общество так неохотно соглашалось на отвод хорошего участка (27 сентября... Су-хо-Улейские буряты отвели. Хорошее луговое место 1). Более того, как отмечает Хангалов: Это место хорошее, если учитель с умом, то принесет более 150 руб. в год… Мне думается, что школьный участок земли в будущем будет иметь громадное значение и будет приносить к училищу порядочный доход; … Если учитель опытный и благоразумный, то он будет жить как помещик и завершает свое размышление, в том числе основанное и на своем опыте, следующим: наконец-то и эти труженики и насадители просвещении в народе будут вознаграждены за свои труды и будут жить без особой нужды. Добросовестно будут работать на ниве народного просвещения и по степенно дополняя свои не достатки. [В] особенности нам бурятам нужны хорошие и добросовестные труженики-учителя, а не бегунцы из одной школы в другую2.
Еще одной характерной чертой Хангалова, но уже как заведующего, являлась некая демократическая манера руководства педагогическим коллективом училища. Так, например, обращая внимание на опоздания учителей, автор дневника с сожалением констатирует, что это обыкновенная и хроническая болезнь наших учителей и отца Никанора, которые такие поступки не считают особенным грехом, а считают обычной вещью… [3, с. 118] и рассматривает для себя возможность сообщить о регулярных опозданиях инспектору народных училищ, но решает, что «это не хорошо» и настраивать против себя коллектив «не ладно» [3].
Запись от 14 октября демонстрирует дискуссионный характер принятия решений в училище: на переменах мы спорили относительно учеников, потому что сегодня у нас педагогический совет… после третьего урока в большой перемене мы педагогический совет кончили: у меня в младших отделениях записали 41 учащихся, а на самом деле учащихся 57 человек; 16 человек детей остались без записи; я им открыто заявил, что этих малышей у меня не хватит смелости прогнать из училища, пусть они остаются без записи; а все таки будут ходить в училище, пока сами не перестанут ходить от холодов; если [кто-то] из них пожелают учиться, то пусть ходят и учатся; учителя и отец Никанор после шумного спора согласились 3.
Матвей Николаевич был чутким, сопереживающим педагогом, который трепетно относился и к своим, и к чужим детям. Приведем лишь несколько характерных фрагментов: Сегодня с утра идет снег, дети собрались и натаскали гря- зи, никак не могу научить их, чтобы они хорошо обтирали ноги1. Дети собрались рано и особенно оживленны и веселы2. Сегодня холодно и дует небольшой северный ветер; из моих малышей некоторые не пришли. — Дети мало выбегают на улицу, шумят и играют в училище3. Уроки кончились благополучно; у меня одна ученица пролила чернильницу на пол. — Это какое преступление, по какой статье нужно привлекать [к] суду, а я оставил без всякого наказания и выговора; только сказал, что на будущее время она была осторожна и не нужно пачкать пол класса4, Бедные дети, в такой ветер пришли в училище, а учителей нет5, Сегодня холодно и не большой ветерок, учащиеся почти все пришли; бедные сильно замерзли, в училище холодно6.
Изучая данные материалы, становится понятно, что устройство сельского приходского училища в начале ХХ в. имело ряд специфических черт. Группы учащихся, именовавшиеся отделениями, из-за нехватки помещений часто обучались совместно. Расписание занятий учитель составлял сам, не доводя до сведения училищного начальства (а иногда вел занятия и без него, как в случае с Хазагае-вым, который так и не предоставил расписание занятий заведующему), причем его продуманность во многом зависела от педагогического опыта. Столкнувшись в который раз с подобной проблемой, Хангалов размышлял: …возможно ли совместное чтение, если ученики 5-го отделения будут читать и рассказывать, а ученики 4-го отделения не поймут, им нужно объяснить и повторять, на это нужно время… Обобщая свои рассуждения, Матвей Николаевич пришел к выводу, что … интересно посидеть на уроках чтения, внимательно послушать и записать все недостатки и промахи учителя и учащихся. — Здесь прямо видно неопытность и непонимание учителя 7 . Продолжая тему неэффективного расписания, Хангалов сообщил, что учитель Зареченсков, а именно ему посвящен этот анализ, согласился переменить расписание и согласился, что по этому расписанию заниматься нельзя и бесполезно и, кроме того, может вредно повлиять на учащихся, которые начнут пропускать уроки и перестанут посещать училище… 8 И в этом случае очевиден демократичный подход Матвея Николаевича к работе, который помог коллеге исправить методические промахи.
Много времени у Хангалова отнимали хозяйственные работы в училище, которые он непосредственно организовывал или ходатайствовал об их проведении. Запись от 14 июня 1910 г. сообщает нам, что утром после чая с письмоводителем и казначеем управы Матвей Николаевич второй раз поехал осматривать ремонт здания училища и оценить стоимость ремонта; когда мы приехали в училище, тогда внимательно осмотрели все необходимые ремонты, сделали опись, оценку каждого ремонта отдельно1. Ремонт училищного здания был предметом постоянных забот и тревог М. Н. Хангалова: 28-го августа... Я сегодня отдыхал, был в управе и справлялся о ремонте; 29-го и 30 августа. Я в эти дни хлопотал о ремонте и переехал в училище. Пора уже работать2. Однако из-за нерасторопности управы ремонт в училище был проведен только в первые дни сентября: 2-го и 3-го сентября. В эти дни в училище были ремонты: в рамы вставили стеклы и прочие3.
Интересным фактом повседневной жизни дореволюционной сельской школы, не встречавшийся ни в одном исследовании, стала гигиена школьного здания, проводившаяся ежемесячно в течение нескольких дней. В рождественские каникулы 1910 г. в училище было решено провести большую уборку помещений. В этой связи Матвей Николаевич пишет: сегодня дети собрались не особенно много, мы занимались до обеда и отпустили детей совсем на праздник Рождества [о], потому что 20-го, 21-го, 22-го и 23-го будут чистить печи, мыть все [помещения] училища и два крыльца 4. Училище воспринималось автором как личное дело, поэтому в длительные праздники/каникулы он вместе с женой наведывался в здание кое-что убрать в классах и удостовериться, что печь и свечи затушены5.
Отметим, что М. Н. Хангалов, являясь одаренным ученым, этнографом, одновременно был и талантливым педагогом, полностью включенным в учебный процесс. В этом смысле дневник в качестве оригинального исторического источника личного происхождения полнее раскрывает его автора как внимательного руководителя, ответственного и сопереживающего педагога и наставника.
Можно утверждать, что для знаменитого бурятского ученого-этнографа начала ХХ в. Матвея Николаевича Хангалова педагогическая деятельность была важнейшим фактором его жизни. Понимая, что работа заведующего училищем является средством поддержания весьма скудного материального существования, Хангалов относился к ней как к служению, очень честно и добросовестно, что доказывают его дневниковые записи. При всей субъективности исторического источника, дневник М. Н. Хангалова дает некоторое представление о специфике деятельности заведующего приходским училищем. Малочисленность и низкая квалификация учителей, подвижность количественного состава учащихся, постоянная нехватка учебных помещений и их фактическая непригодность многократно усложняли работу Матвея Николаевича. Стиль изложения педагогического процесса в дневнике демонстрирует планомерность и системность работы, проводимой Хангаловым на посту заведующего училищем. В процессе изучения дневника сложилось впечатление, что зачастую практически ежедневное присутствие Хангалова в училище упорядочивало его работу, фактически обеспечивая его функционирование.
Список литературы "...Учителя или учительницы занимаются охотно и не жалуются.": этнограф М. Н. Хангалов на службе у просвещения
- Залкинд Е. М. Памяти М. Н. Хангалова // Этнографический сборник; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. Улан-Удэ: [б. и.], 1960. Вып. 5. 1969. 256 с. Текст: непосредственный.
- Маласханова И. А. Вклад М. Н. Хангалова в развитие этнографического отдела Иркутского областного краеведческого музея // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. С. 137-140. Текст: непосредственный.
- Палхаева Е. Н., Жукова Н. Е. Дневники М. Н. Хангалова как источник истории повседневности // Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне: в 2 частях (Чита, 18 сентября 2020 г.). 2020. Ч. 1. С. 116-119. Текст: непосредственный.
- Хамаганов М. П. М. Н. Хангалов как этнограф-фольклорист Советская этнография / Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1960. Вып. 5. 194 с. Текст: непосредственный.
- Шерхунаев Р. А. Выдающийся деятель бурятской культуры (М. Н. Хангалов) // У истоков мудрости народной. Иркутск, 1994. С. 12-32. Текст: непосредственный.