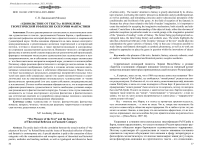"Удовольствие от текста" и проблемы теоретической рефлексии категории фантастики
Автор: Лавлинский Сергей Петрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается соотнесенность эссеистического понятия «удовольствие от текста», предложенного Роланом Бартом, с проблемами теоретической рефлексии категорий фантастики и фантастического в современной гуманитарной науке. Особое внимание обращается на связь данных категорий с коммуникативными и рецептивными аспектами теоретической и исторической поэтики, эстетики и педагогики, а также предметно-видовыми и дискурсивными сторонами художественной целостности. Внимание читателя к литературной фантастике в значительной степени определяется хронотопической организацией, формирует мотивацию читательского удовольствия (как гедонистического и психотерапевтического, так и собственно эстетического) и стимулирует сознательное и / или бессознательное восприятие жанровой меры условности и жизнеподобия. Поскольку сфера рецепции фантастического в литературе всегда связана со сферой читательского воображения, требуется и создание методик освоения имагинативных механизмов (научных и собственно образовательных). Важно понять, что будет исследоваться: актуальность конкретных восприятий (отдельных читателей или каких-либо социальных групп) (это задачи психологические и социологические) или же имагинативная потенциальность «удовольствия» от чтения фантастических произведений (это уже задачи собственно литературоведческие и эстетические). В статье особое внимание обращается на то, что в теоретической рефлексии рецептивного «удовольствия от текста» необходимо учитывать жанровые разновидности фантастической литературы. Только в этом случае появляется возможность не только всестороннего изучения фантастики и фантастического как эстетических явлений, но и разработки продуктивных подходов к освоению фантастики в новейшем инновационном образовании.
«удовольствие от текста», фантастическое, фантастика, мимесис, катарсис, читатель, читательская рецепция, теоретическая и историческая поэтика, рецептивная эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/149136566
IDR: 149136566 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00002
Текст научной статьи "Удовольствие от текста" и проблемы теоретической рефлексии категории фантастики
Современный испанский писатель Энрике Вила-Матас в романе «Бартбли и компания» обращает внимание читателя на значимый аспект концептуализации некоторых провокативных идей позднего Ролана Барта:
«...Я спросил, знает ли она, что в 1984 году вышла книга под названием “Возвращение зеркала” (Роб-Грийе), где сообщается: “новый роман” родился как своего рода розыгрыш. Я объяснил ей, что эта книга, развенчивающая миф, написана самим Роб-Грийе, а затем его слова подтвердил и Ролан Барт. Я рассказал ей, что приверженцам “нового романа” было нечего на это возразить, потому что автором был сам Роб-Грийе. В книге он описал, с какой легкостью они с Бартом дискредитировали такие понятия, как “автор”, “повествование” и “реальность”, и еще он заявил, что вся их затея должна восприниматься в одном ряду с “террористическими актами той поры”.
-
- Нет, - ответила мне Мария, и в голосе ее прозвучала прежняя веселость, чуть оттененная печалью, - я этого не знала. Что ж, теперь мне полагалось бы вступить в какое-нибудь общество жертв терроризма. Но в любом случае это уже ничего не меняет. Знаешь, я даже рада, что они оказались аферистами, это их полностью оправдывает, мне ведь вообще безумно нравятся всякие надувательства в искусстве...» [Вила-Матас, 2007: 64].
Удерживая в сознании интеллектуальные мистификации Роб-Грийе и Барта, можно предположить, что спустя полвека в России продолжает расширяться «общество жертв бартовского гедонистического терроризма». Поэтому в разговорах об «удовольствии от текста» внимание постоянно сдвигается с научного обсуждения этого явления в сферу литературную и философско-эссеистическую, что вполне закономерно: какая уж тут наука, когда фиксируешь внимание на «эротичности» текста - его «появлениях-

исчезновениях». Само же понятие «удовольствия» при этом почти никогда не подвергается научной рефлексии.
Вспомним один из «очерков по русской семантике» известного лингвиста А.Б. Пеньковского, посвященного герменевтическому осмыслению понятия «удовольствие». Разумеется, в мои задачи не входит детальный анализ статьи ученого «Радость и удовольствие в представлении русского языка». Остановлюсь лишь на некоторых особенностях понятия «удовольствие», относящихся к затронутой проблеме.
Пеньковский обращает внимание: «в той картине мира, которая может быть воссоздана на основе всего массива данных современного языка, УДОВОЛЬСТВИЕ - это не “чувство” (или по крайней мере не просто “чувство”). Это положительная чувственная реакция». И преимущественно чувственно-физиологическая реакция в отличие от РАДОСТИ, которая имеет «более высокую чувственно-психическую природу <...> УДОВОЛЬСТВИЕ, - подчеркивает Пеньковский, - “механично” и “технично” в отличие от РАДОСТИ, которая “органична”, поскольку последняя меж-личностна и надличностна» [Пеньковский 2004, 34-35]. В этом отношении РАДОСТЬ гораздо в большей степени, чем УДОВОЛЬСТВИЕ, может быть соотнесена с эстетическими переживаниями, которые в Древней Индии (II IV вв.) определяли понятием «раса».
Как отмечал П.А. Гринцер, «раса - то, что вкушается, “эстетическая эмоция”», настроение, возбуждаемое художественным произведением. Это «особое качество литературного произведения, его “сок”, “сущность”, объект вкуса зрителя <...> Это и сам процесс вкушения, восприятия, наслаждения эстетическим объектом» [Гринцер 1987, 143]. Древний трактат «Натьяшастра» насчитывает восемь видов расы: любовь, печаль, веселье, гнев, мужество, страх, отвращение и удивление, созерцание - громкие, тихие и средние чувства. В дальнейшем концепции цельности эстетического восприятия, которое преодолевало, а не только дублировало «простые эмоции», разрабатывались в европейской эстетике. Из современных отечественных теорий выделяется концепция художественных модусов, предложенная В.И. Тюпой [см.: Теория литературы 2004, 49-77]. Именно в этой концепции определяется типология катарсисов - «встреч» сознаний читателя и героя, читателя и автора, создающих «смысловую границу произведения и его эстетическую завершенность» [Тамарченко 2008 а, 93], «ответ» на чужую имагинативную и духовную активность. Вспомним афористичную формулировку Г.Р. Яусса: катарсис - это эстетическое «удовольствие от возбуждаемых речью или поэзией собственных аффектов, которое может привести слушателя или зрителя как к перевозбуждению, так и к освобождению его духа», причем «эстетическая свобода» достигается «самонаслаждением в чужом наслаждении» [Jauss 1991, 88, 166].
Если учитывать эти положения исторической поэтики и рецептивной эстетики, то становится очевидным, что и различные аспекты фантастического в литературе, акцентируя внимание на предметно-видовых («воображаемых») и дискурсивных сторонах художественной целостности,

обладают теми же самыми модусами, что и аспекты нефантастические. В свою очередь, разговоры о «немиметических» особенностях фантастического происходят из явных упрощений характера соотнесенности «миметического / немиметического», согласно которым «мимесис» осмысливается исключительно как синоним понятия «жизнеподобие», а не как обозначение «первоначально творческого воспроизведения в становящейся профанной действительности вневременных образцов или моделей всего существующего (включая космос), которые и образуют сферу совершенного бытия <...> Это “текуче сущностное моделирующее понятие” (А.Ф. Лосев) приобрело более широкое значение: такого изображения различных вещей, явлений и действительности в целом - в отличие от простого копирования - воспроизводит прежде всего внутренние закономерности (“эйдос”, т.е. порождающую модель или первообраз) своего предмета и уже в результате этого воссоздает его внешний облик» [Тамарченко 2008 Ь, 122]. До сих пор актуальна известная книга Э. Ауэрбаха «Мимесис», где затрагиваются вопросы прояснения гротескно-фантастической традиции в литературе (см., например, главу «Мир во рту Пантагрюэля» [Ауэрбах 1978, 265-284]).
В связи со сказанным важно понять, что должно осваиваться в «удовольствии от фантастического» и как именно оно может фиксироваться. Если речь идет о модусах художественного удовольствия /радости - это одно, если о явлениях особого рода психомиметической аффектации - это другое. Для последнего необходимо определиться с единицами «удовольствия». Напомню, как изучалось Л.С. Выготским удовольствие, получаемое читателем от преодоления «жизненной мути» художественной формой в рассказе Бунина «Легкое дыхание». Сам факт такого рецептивного преодоления Выготский определял через понятие «легкости», имманентного фактам «легкости» эстетического объекта. Однако ему было недостаточно ограничить демонстрацию «легкости» исключительно анализом произведения, ориентированным на методику русских формалистов. Он обратился к научному психофизиологическому эксперименту с использованием пневматического механизма:
«Мы произвели целый ряд экспериментальных записей нашего дыхания во время чтения отрывков прозаических и поэтических, имеющих разный ритмический строй, в частности нами записано полностью дыхание во время чтения этого рассказа; Блонский совершенно верно говорит, что, в сущности говоря, мы чувствуем так, как мы дышим, и чрезвычайно показательным для эмоционального действия каждого произведения является та система дыхания, которая ему соответствует. Заставляя нас тратить дыхание скупо, мелкими порциями, задерживать его, автор легко создает общий эмоциональный фон для нашей реакции, фон тоскливо затаенного настроения. Наоборот, заставляя нас как бы выплеснуть разом весь находящийся в легких воздух и энергично вновь пополнить этот запас, поэт создает совершенно иной эмоциональный фон для нашей эстетической реакции» [Выготский 1987, 155].
В любом случае, если мы стремимся к адекватному прояснению феномена «удовольствия от фантастического» и настаиваем на его психофизиологической сущности, чтобы избежать философических спекуляций или сугубо литературных фантазий, необходимо разработать методологию и методику его изучения соответствующими средствами.
Поскольку сфера рецепции фантастического в литературе всегда связана со сферой читательского воображения, требуется, по всей видимости, и создание методик освоения имагинативных механизмов. В данном случае важно понять, что будет исследоваться: актуальность конкретных восприятий (отдельных читателей или каких-либо социальных групп) (это задачи психологические и социологические) или же имагинативная потенциальность «удовольствия» от чтения фантастических произведений (это уже задачи собственно литературоведческие и эстетические).
И здесь возникает еще одна проблема, связанная, с недостаточной терминологической проясненностью, во-первых, фантастического как эстетической и литературоведческой категории, во-вторых, фантастики как особой разновидности литературы. Фантастическое в первую очередь обозначает специфический тип художественной образности, основанный на принципе тотального смещения/совмещения границ «возможного» и «невозможного», на креативно-рецептивном «опыте границ» (Ц. Тодоров) и визуально маркированной «морфологической» рекомбинации предметов (частей мира) (Е. Фарино). Такая образность определяется нарушениями принятой нормы художественной условности и/или системно-устойчивых принципов правдоподобия (естественнонаучных, эмпирических и т.п.). Нарушения подобного рода, как правило, мотивируются столкновением героя (и / или читателя) со «странным» / «невообразимым» явлением, выходящим за рамки той картины мира, которую принято считать «обычной» (или «объективной»). Развернутая теоретическая рефлексия фантастического представлена нами в статье [Лавлинский, Малкина, Павлов 2017, 25-69].
Что же касается фантастики как разновидности художественной литературы, то следует учитывать: в одном случае читатель имеет дело с фантастической литературой, связанной с готическими и гротескными традициями, основанными на принципе двоемирия и «рецептивного колебания» (Ц. Тодоров), в другом - с фантастической литературой XX XXI вв., которая в отличие от иных видов фантастики, по мысли Н.Д. Тамарченко, «демонстрирует безусловную реальность (не иносказательную) мира персонажей, сочетающуюся с философско-экспериментальным характером сюжета: в него включается внутренняя основа поступка героя - такой сюжет имеет целью испытание идеи (например, в философско-авантюрной фантастике)» [Тамарченко 2008 с, 278].
В последнем случае в теоретической рефлексии рецептивного удовольствия стоит учитывать жанровые разновидности фантастики, которую вплоть до сегодняшнего дня по привычке делят на «научную фантастику» и так наз. «фэнтези». К сожалению, работ, предлагающих продуктивный
подход к исследованию поэтики фантастических произведений, немного. Из последних наиболее удачных в теоретическом и методологическом отношении исследований назову недавнюю книгу Е.Ю. Козьминой, посвященную рассмотрению жанра фантастического авантюрно-исторического романа [Козьмина 2017]. Важно, что именно в работе Е.Ю. Козьминой впервые и весьма отчетливо проводятся разграничения между «научной фантастикой», «авантюрной фантастикой» и «авантюрно-философской фантастикой». «По жанровому статусу авантюрно-философская фантастика XX века, - справедливо пишет автор книги, - не единый жанр (как ее зачастую называют), а группа жанров, объединенных общими чертами, но в то же время каждый из них имеет свою собственную структуру и свое собственное происхождение» [Козьмина 2017, 83].
В обсуждении вопросов «читательского гедонизма» и «читательской сопричастности» в сфере фантастической литературы невозможно обойтись без детального изучения «внутреннего мира» конкретных произведений, относящихся к тому или иному жанру, поскольку именно от этого устройства и зависит процесс «инфицирования читателя», о котором писал В.Н. Топоров: «чтение текста может быть представлено как («феноменологическая редукция») замыкание того, что было (тогда - там - он), с теперь - з д е с ь - Я (это совмещение, в основе которого лежит своего рода подыскивание себе, своему Я парадигмы, генеалогии, причины, обладает важной психотерапевтической функцией), а интерпретация текста - как построение промежуточных пространств, включая и потенциально мыслимые» [Топоров 1983, 284].
Внимание читателя к литературной фантастике в значительной степени определяется хронотопической организацией, формирует мотивацию читательского удовольствия (как гедонистического и психотерапевтического, так и собственно эстетического) и стимулирует сознательное и / или бессознательное восприятие жанровой меры условности и жизнеподобия.
Если учитывать тезисно отмеченные особенности фантастической литературы и стратегий ее восприятия, можно, на мой взгляд, найти и адекватные способы освоения рецепции фантастического не только в научном контексте, но и в контекстах практической педагогики (упомяну один из опытов разработки учебного пособия по изучению авантюрной фантастики для 7 класса «Мир без границ возможного» [Тамарченко, Стрельцова, 2001]). В противном случае диалог о природе фантастики и рецепции ее ландшафтов так и останется на уровне литературно-критических и философических спекуляций.
Список литературы "Удовольствие от текста" и проблемы теоретической рефлексии категории фантастики
- Ауэрбах Э. Мимесис. М.: Прогресс, 1976.
- Вилла-Матас Э. Бартбли и компания. М.: Иностранка, 2007.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987.
- Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. М.: Наука, 1987.
- Козьмина Е. Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.
- Лавлинский С.П., Малкина В.Я., Павлов А.М. Фантастическое как теоретико-литературная и эстетическая категория: дискурсивно-визуальные аспекты // Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты. Б.м.: Издательские решения, 2017. С. 25-69.
- Пеньковский А.Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 6172.
- (а) Тамарченко Н.Д. Катарсис // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной - Intrada, 2008. С. 93-94.
- (b) Тамарченко Н.Д. Мимесис // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной - Intrada, 2008. С. 121-122.
- (с) Тамарченко Н.Д. Фантастика авантюрно-философская // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной - Intrada, 2008. С. 277-278.
- Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Мир без границ возможного: учебник по литературе для 7 класса школ гуманитарного типа: в 2 ч. Ч. 1. Авантюрная фантастика ХХ века. Екатеринбург: б.и., 2001.
- Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Academia, 2004.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227-285.
- Jauss H.R. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.