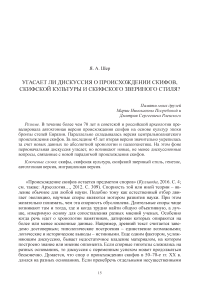Угасает ли дискуссия о происхождении скифов, скифской культуры и скифского звериного стиля?
Автор: Шер Я.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 247, 2017 года.
Бесплатный доступ
В течение более чем 70 лет в советской и российской археологии превалировала автохтонная версия происхождения скифов на основе культур эпохи бронзы степей Евразии. Параллельно складывалась версия центральноазиатского происхождения скифов. За последние 45 лет вторая версия значительно укрепилась за счет новых данных по абсолютной хронологии и палеогенетике. На этом фоне первоначальная дискуссия угасает, но возникают новые, не менее дискуссионные вопросы, связанные с новой парадигмой происхождения скифов.
Скифы, скифская культура, скифский звериный стиль, генезис, автохтонная версия, миграционная версия
Короткий адрес: https://sciup.org/143163910
IDR: 143163910
Текст научной статьи Угасает ли дискуссия о происхождении скифов, скифской культуры и скифского звериного стиля?
«Происхождение скифов остается предметом споров» (Кулланда, 2016. С. 4; см. также: Археология…, 2012. С. 309). Спорность той или иной теории – явление обычное для любой науки. Подобно тому как естественный отбор двигает эволюцию, научные споры являются мотором развития науки. При этом желательно понимать, чем эта спорность обусловлена. Длительные споры чаще возникают там и тогда, где и когда трудно найти общую объективную, а лучше, измеримую основу для сопоставления разных мнений ученых. Особенно когда речь идет о хронологии памятников, датировки которых опираются на более или менее косвенные данные. Например, древний текст считается заведомо достоверным; типологические построения – единственно возможными; логические и исторические выводы – истинными. Еще одним фактором, усложняющим дискуссию, бывает недостаточное владение материалом, на котором построено знание или мнение оппонента. Если спорные гипотезы сложились на разных основаниях, то дискуссия с переменным успехом может продолжаться бесконечно. Думается, что спор о происхождении скифов в 50–70-е гг. ХХ в. длился на разных основаниях. Если пренебречь отдельными несущественными деталями, к середине ХХ в. сложились две основные гипотезы происхождения скифов и их культур: автохтонная и центральноазиатская (далее – первая и вторая). Не буду перегружать текст именами, которые хорошо известны. Их труд и стойкость в убеждениях заслуживают уважения и бережного отношения. Попытаемся рассмотреть основания, на которых базируются эти гипотезы.
Первая гипотеза. Культура скифов сформировалась в VII–VI вв. до н. э. в южнорусских степях на основе местных культур эпохи поздней бронзы: катакомбной, срубной и киммерийской. Главной опорой этой гипотезы были упоминания в древних ассиро-вавилонских и греческих текстах (в основном в «Истории» Геродота). Большое значение в этой гипотезе придавалось дате первого упоминания о скифах – 670 г. до н. э. – и о 28 годах их гегемонии на Переднем Востоке. Последняя послужила основанием для дочерней гипотезы о том, что скифский звериный стиль был некоей реминисценцией образов животных, заимствованных в ахеменидском и луристанском репертуаре.
По мере освоения Россией территории южных степей здесь увеличивалось количество находок античных и скифских древностей (кладоискательство, затем научные раскопки). После раскопок таких курганов, как Литой, Келермес, Куль-Оба, Солоха, Чертомлык и ряд других, столь же богатых драгоценными находками, уверенность в том, что именно здесь был центр скифской культуры, укреплялась. Раскопки «царских» курганов в советское время (Мелитопольский, Толстая Могила и др.) сделали эту уверенность почти незыблемой. До начала 70-х гг. ХХ в. первую гипотезу разделяло большинство ведущих скифологов.
Она получила мощную поддержку после обнаружения в 1947 г. Сакксыз-ского клада в Иранском Курдистане близ селения Зивие. «Сокровища из Сак-кыза» стали предметом ряда исследований и публикаций ( Godard , 1950; 1951; Ghirschman , 1950; Barnett , 1956 и др., подробную библиографию см.: Muscarella , 1977). В составе клада среди многих вещей ассирийского, урартского и ахеме-нидского облика были редкие, явно скифские предметы с изображениями, аналогичными таковым на вещах, найденных в самых ранних скифских курганах Причерноморья (Келермес, Мельгуновский и др.). Считалось, что найдено недостающее звено в цепочке фактов, свидетельствующих о передневосточном происхождении скифского звериного стиля. Почти 30 лет комплекс из Зивие считался неопровержимым свидетельством того, что здесь был раскопан скифский «царский» курган.
Вторая гипотеза. Суть второй гипотезы соответствует словам Геродота «скифы пришли из Азии». Эти слова подтверждаются находками многих золотых, бронзовых, костяных, роговых, деревянных и войлочных изделий с изображениями в скифском зверином стиле на просторах азиатских степей, предгорий и горных долин.
Сторонники первой гипотезы считали их варварскими копированиями скифских оригиналов и, следовательно, более поздними по времени. Поначалу эту идею разделял и М. И. Ростовцев, но позже от нее отошел, понимая, что такое обилие и разнообразие варварских заимствований невозможно.
Сомнения. Первая гипотеза заметно пошатнулась более 40 лет назад, когда раскопки кургана Аржан 1 в Туве дали совершенно новые материалы, которые в нее не вписались. Типология найденных здесь удил, псалиев и наконечников стрел указывала на VIII–VII вв. до н. э. как на очень осторожную датировку со всеми возможными допусками в сторону более позднего времени. Серия радиоуглеродных дат показала, что бревна погребальных срубов датируются еще более ранним временем (Шер, 1980. С. 249). Найденные здесь изображения и предметы мелкой пластики очень выразительны. В них очевиден не формирующийся, а уже вполне сложившийся звериный стиль. Очень близкие аналогии обнаруживаются в некоторых ранних скифских памятниках Причерноморья и Предкавказья: Новочеркасском, Жаботине, Ульских курганах и др. (Иессен, 1953; 1954; Зуев, 1993. С. 38–53). Но они ведь считались здесь едва ли не самыми ранними. Получалось так, что в Саянах скифский звериный стиль сложился до того, как он впервые появился в Причерноморье. Считавшиеся чуть ли не самыми древними скифскими изображениями находки из Зивие оказались более чем на 200 лет моложе изобразительных материалов из Аржана 1. Разумеется, не следует игнорировать несомненные следы связей скифских культур сибирского, среднеазиатского и причерноморского ареалов с культурами Ближнего Востока. Эти связи и влияния действительно были, в том числе и в элементах скифо-сибирского звериного стиля, но они проявились длительное время спустя, на этапе VI–IV вв. до н. э. (Руденко, 1961). Сейчас об этих влияниях можно говорить не в общем виде, а указывая конкретные элементы звериного стиля, которые были позаимствованы скифо-саками из других изобразительных традиций, и, наоборот, элементы, которые инокультурные мастера заимствовали у скифов и саков (подробнее см.: Bernard, 1976. С. 246). В свете новых данных становилась более обоснованной та часть второй гипотезы, где говорится об изобразительных традициях, восходящих к карасукской культуре и, как представляется автору этих строк, к намного более ранним периодам. Некоторые находки изображений т. н. «окуневской» культуры позволяют предполагать, что уже тогда появились отдельные элементы звериного стиля, которые, редуцируясь, продержались более двух тысяч лет (Шер, 1987; 1998; Sher, 1988. С. 992).
Были скорректированы данные Геродота. Специальный анализ показал, что 28 лет гегемонии не согласуются между собой, местами противоречивы и зависят от 40 лет правления Киаксара: включены ли они в эти 40 лет или добавлены к ним ( Грантовский , 1998. С. 146; см. также: Медведская , 2010. С. 179 и сл.). Известно, как оценивал достоверность сообщений Геродота Страбон ( Пьянков , 1997. С. 10–11). Но даже если бы этих противоречий не было, 28 лет – совершенно нереальный срок для такого глубинного явления культуры, как звериный стиль, чтобы его освоить, переработать, перенести и в массовом объеме внедрить в инокультурную среду.
Помимо более чем спорной концепции изначальной «аниконичности» предшествующих культур (Раевский, 1983; 1985), чего вообще не бывает, есть забавная аналогия. Знаменитый норвежский лингвист, мифолог и фольклорист Суфус Бюгге объяснял происхождение эддических мифов из различных христианских и позднеантичных текстов. Получалось так, что викинги, ворвавшись в тот или иной монастырь, вместо того чтобы заняться привычными насилием и грабежом, бросались в монастырский скрипторий и там взахлеб читали латинские рукописи редчайших памятников и потом сочиняли мифы, в которых использовали приобретенную эрудицию (Стеблин-Каменский, 1976. С. 14). Вряд ли скифы на Переднем Востоке, вместо обычного занятия всех гегемонов, прилежно изучали искусство Ахеменидов и Луристана, чтобы потом его внедрить в Причерноморье.
В 1977 г. была опубликована работа, в которой обстоятельства обнаружения клада из Саккыза подверглись критическому анализу ( Muscarella , 1977). В момент открытия блеск сенсационных находок затмил собой вопрос об их документированности. Первые вещи из Зивие были найдены пастухами. Некоторые из них были проданы некоему ювелиру из Саккыза. Ювелир, в свою очередь, продал их антиквару из Хамадана, а последний привез их одному тегеранскому торговцу древностями. После этого несколько предметов попали в Тегеранский музей, где впервые была понята научная ценность этих находок ( Ghirschman , 1979. С. 9).
Молва о находках из Зивие, за которые в столице платят большие деньги, вернулась к жителям саккызской округи. Поодиночке и группами вещи якобы из Зивие стали появляться на антикварных рынках, а некоторые из них попали в музеи и частные коллекции Европы и Америки. Тегеранский музей поручил одному из крупных антикваров провести «коммерческие» раскопки. Они длились три сезона. Раскопки, по существу, были грабительскими. Конъюнктура антикварного рынка способствовала тому, чтобы вещи, подлинное происхождение которых неизвестно, выдавались за происходящие из Зивие. Как показал О. Мускарелла, в комплексе Зивие оказались вещи, точное происхождение которых неизвестно. Относительно некоторых предметов, разошедшихся через скупщиков древностей по музеям и частным собраниям Европы и Америки, высказываются сомнения как в их происхождении из Зивие, так и в самой подлинности, поскольку отдельные из них оказались искусными современными подделками.
Работы Мускареллы вызвали резкое неприятие Р. Гиршмана, который, однако, не нашел каких-либо новых контраргументов. Опубликованные им фотографии крестьян с лопатами на склоне холма, изрытом небольшими ямами, конечно, не могут заменить документации раскопок. К тому же Р. Гиршман сам отметил, что «никогда на этом памятнике не было научных раскопок» (Ibid. С. 29). Надо сказать, что теория передневосточного происхождения скифского звериного стиля и раньше вызывала возражения специалистов ( Barnett , 1956; Farkash , 1973; 1977; Фаркаш , 1992 и др.).
Почти за 15 лет до Мускареллы сомнения в достоверности этих находок высказал Р. Дайсон, который проводил раскопки на поселении Хасанлу неподалеку от Зивие и в 1950–1960-х гг. неоднократно посещал тот холм, на котором якобы была обнаружена «скифская гробница». В 1956 г. Дайсон и его сотрудники попытались провести раскопки силами тех же местных жителей, которые снабжали находками известного тегеранского антиквара. Как пишет Дайсон, практика показала, что никто из этих людей не понимал природы культурных отложений. Они выкапывали небольшие квадраты по склону и на вопрос, почему они так копают, отвечали, что они так работают с 1947 г., когда был найден клад, и указали место его находки в глубокой промоине. В 1960 г. Р. Дайсон, Э. Порада и Э. Кантор нашли здесь несколько расписных черепков типа Хасанлу, но не нашли никаких следов «царской скифской гробницы» ( Dyson , 1963. С. 32–37; 1966).
«Азию» Геродота разные авторы понимают по-разному. На основе анализа скифского языка С. В. Кулланда обобщил эти варианты следующим образом: «Теоретически Араксом, из-за которого пришли скифы, мог быть и современный Аракс, и Волга, и Урал, и Аму- или Сыр-Дарья, но, учитывая, что ближайшие родственники европейских скифов, саки, обитали в Средней Азии, первых, видимо, следует выводить из-за Волги (в широком смысле), а не из Передней Азии» ( Кулланда , 2016. С. 37). Это тоже был вклад в укрепление второй гипотезы.
В основе исследования С. В. Куланды лежит лингвистический анализ сохранившейся и реконструируемой скифской лексики в сравнении с другими индоиранскими (и не только) древними языками. Методы лингвистической компаративистики – едва ли не самые точные из нечисловых методов в гуманитарных науках. Важным дополнением при этом является анализ текстов Геродота и других древних авторов. Анализ всей скифской культуры такими же точными средствами, как анализ языка, пока еще не придумали. Однако подход к анализу отдельных сегментов этой культуры давно наметился. В качестве примера можно привести метод сопоставления инвариантных элементов, присущих изображениям того или иного стиля ( Шер , 1980). Для этого понадобится сначала составить «алфавит» первичных элементов звериного стиля, а затем методами позиционной статистики проследить их взаимовстречаемость в пространстве и времени. Такая «изокомпаративистика» может, например, помочь при поисках дописьменных мифологических формул и сюжетов.
В исследовании других, не информационных, а физических элементов скифских культур интересные результаты дают естественнонаучные методы. За прошедшие десятилетия российская археология обогатилась методами, потенциал которых применительно к нашей теме раскрыт еще далеко не полностью либо вообще не раскрыт. Например, трудно назвать новинкой книгу Т. Б. Барцевой ( Барцева , 1981). В ней нет цветных картинок курганного золота. Она наполнена цифровыми таблицами. Если же присмотреться к таблицам результатов спектрального анализа предметов скифской бронзы, найденных при раскопках разных лет в Поднепровье, можно обнаружить много интересного. Спектральный анализ раскрывает качественный и количественный химический состав сплава, из которого был изготовлен данный предмет. В составе каждого предмета различаются три части: а) основа, т. е. медь; б) намеренная прибавка (присадка, т. е. мышьяк, сурьма, олово и т. п.), а также в) рудные примеси, т. е. те элементы, которые при плавке перешли в изделие из руды. Обычно это редкоземельные элементы в очень малых долях – десятых и сотых процента, но для наших задач они самые важные. Это как отпечаток пальца: каждое месторождение имеет свой набор рудных примесей. При плавке они переходят в сплав. В книге Т. Б. Барцевой показано, что среди находок из Поднепровья, кроме предметов, сделанных из руды близкого происхождения, встречаются вещи, выплавленные по южноуральским, центральноазиатским, южносибирским и иным восточным рецептам. В основном это наконечники стрел и предметы конской узды. Вряд ли наконечники стрел, отлитые близ нынешнего Минусинска, могли прилететь сюда без своих владельцев. Это упрощенный пример, но суть ситуации реальна.
Можно также вспомнить об отдельных находках (о раннескифском зеркале, см. Алексеев , 2005. С. 161–167), о проблеме появления железного оружия у ранних кочевников Центральной Азии, о не вполне ясных признаках обработки железных акинаков, клевцов-чеканов и наконечников стрел при их украшении узорными аппликациями из листового золота ( Минасян , 2014. С. 34, 94–98, 265–269). Оригинальна техника резьбы по золоту (Аржан 2). Такая технология не встречается западнее Южного Урала (Филипповка).
Почти до конца ХХ в. мы не располагали абсолютными датами скифских памятников Припчерноморья, а тем временем количество дат по 14С для восточных районов росло по экспоненте, уже перевалило за сотню и продолжает расти ( Зайцева и др. , 1997; 2007; Семенцов и др. , 1997). Абсолютных дат скифских памятников Причерноморья и Северного Кавказа несопоставимо мало для весомых выводов ( Алексеев , 2003; Алексеев и др ., 2005. С. 122–128). Необходимо ускоренное накопление датировок по 14С, включая АМЅ-технологии.
Умножаются палеогенетичческие данные о миграциях светловолосых, серо-и голубоглазых европеоидов по Великому Поясу Степей с Запада на Восток и обратно, начиная едва ли не с IV тыс. до н. э.: Средний Стог, ямная, афанасьевская, так называемая окуневская и андроновская культуры. В ряде публикаций А. Г. Козинцева приведены результаты исследований краниометрических и генетических данных по сериям из сотен черепов, происходящих из памятников эпохи бронзы и скифов. Они протянулись по степи от Западной Европы до Енисея и Саяно-Алтая. Скифы входили в среду европеоидов средиземноморского типа. В эту же группу попали т. н. «окуневцы», а также андроновцы Западного Казахстана и др. Одновременно заметны различия между степными и лесостепными скифами ( Козинцев , 1998; 2000; 2007; 2008; 2009; 2010 и др.; Козинцев, Селезнева , 2015). О проникновении европеоидов в состав саянских ранних кочевников см. также: Чикишева , 2000. С. 140, 141; 2008. С. 134 и сл. Все эти данные вполне согласуются с результатами масштабных раскопок экспедиции А. А. Ковалева (Древнейшие европейцы…, 2014; 2015; Ковалев и др ., 2016 и др.).
В последние годы впервые к материалам из скифских курганов Саяно-Алтая и среднего Енисея стали применяться анализы соотношения изотопов свинца для бронзы и стронция для костей ( Капитонов и др ., 2007; Лохов и др. , 2007). Они позволяют разделить смешанные группы там, где другие методы этого «не замечают». Кстати, московские коллеги давно и успешно пользуются изотопными исследованиями материалов из памятников эпохи бронзы юга России (Н. И. Шишлина и др.).
Появляются и новые данные, размывающие первую гипотезу как бы изнутри, и они дают «основания полагать, что носители материальной культуры, легшей в основу раннескифского комплекса, пришли в Предкавказье из Средней Азии, точнее из Предаралья» ( Кулланда , 2016. С. 39), т. е. ведут к отказу от гипотезы об автохтонном сложении культуры скифов на основе культур эпохи бронзы юго-восточной Европы. Накапливаются и другие материалы, позволяющие предположить значительно более удаленный регион, где начиналось формирование скифской культуры, – Южную Сибирь.
Они уже давно фигурируют в находках и в публикациях, но не привлекают к себе должного внимания.
Становится ясно, что спор шел на разных основаниях. В то время как сторонники автохтонной гипотезы практически исчерпали свои аргументы, их оппоненты продолжают не только укреплять свою фактическую базу, но и приближаться к исторической истине. Она вырисовывается пока в целом так, что начиная с энеолита четыре тысячи лет пастухи-скотоводы, праиндоевропейцы, передвигались по степям с Запада на Восток. Они описали гигантскую петлю от Европы до Енисея, Саян и Алтая и уже как всадники двинулись обратно через Среднюю Азию, огибая Каспий с Севера и с Юга. Конечно, это не более чем первичная, грубая схема. Начиная свой путь, пастухи-скотоводы не знали географии. Они двигались в разных направлениях по мере истощения пастбищ, по древнекитайской формуле «в поисках воды и травы». Главное направление миграции было восточным, но имело и ответвления. Есть следы движения на юго-восток – через Кавказ и восточный Прикаспий на Иранское Плато ( Ghirsh-man , 1977). Менее заметны, но есть следы миграций через Тянь-Шань, Пами-ро-Алай, Гиндукуш в долину Инда и обратно ( Бернштам , 1952; 1956; Jetttmar , 1972; 1979; 1989; Литвинский , 1972; 2000).
Подводя итог, можно сказать, что дискуссия, медленно угасая в своем первоначальном варианте, подтвердила несомненный приоритет миграционной гипотезы. Однако при этом получается частичный возврат к автохтонной гипотезе на новой основе. Ведь в самом деле, путь на Восток проходил через земли культур Средний Стог, ямная, афанасьевская и т. д. Естественно, мигранты увлекали за собой некоторое количество местных мужчин и особенно женщин. Об этом говорят парные захоронения, которые, правда, иногда трактуются как впускные. Назревают новые дискуссии. Думается, что необходимо более глубокое краниометрическое и палеогенетическое изучение женских черепов из могил мигрантов. Необходимо составление современной динамической (на основе 14С) типологии находок. В 2010 г. Н. А. Аванесова в музее Самаркандского университета показывала нам с А. П. Франкфором фрагменты ямной керамики, найденные при раскопках. Были бы также полезны более тесные контакты с экспедицией CNRЅ под руководством К. Дебэн-Франкфор в Синцзяне. По мере накопления новых данных будут возникать новые проблемы.
Итак, следуя законам развития науки, одна дискуссия, угасая, порождает новые проблемы и новые дискуссии. Пожелаем новых успехов всем, кто занят этой интересной работой.
Список литературы Угасает ли дискуссия о происхождении скифов, скифской культуры и скифского звериного стиля?
- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н. э. СПб.: Изд-во ГЭ. 410 с.
- Алексеев А. Ю., 2005. Предскифское зеркало из Саркела//Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья: Памяти В. С. Ольховского: сб. ст. М.: ИА РАН. С. 161-167.
- Алексеев А. Ю., Боковенко Н. А., Васильев С. С., Дергачев В. А., Зайцева Г. И., Ковалюх Н. Н., Кук Г., ванн дер Плихт Й., Посснерт Г., Семенов А. А., Скотт Е. М., Чугунов К. В., 2005. Евразия в скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хронология. СПб.: Теза. 290 с.
- Археология: учебник/Под ред. В. Л. Янина. М.: Изд-во Московского ун-та, 2012. 608 с.
- Барцева Т. Б., 1981. Цветная металлообработка скифского времени. Лесостепное Днепровское левобережье. М.: Наука. 127 с.
- Бернштам A. Н., 1952. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алтая. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 344 с. (МИА; № 26.)
- Бернштам А. Н., 1956. Саки Памира//ВДИ. № 1. С. 121-134.
- Грантовский Э. А., 1998. Иран и иранцы до Ахеменидов. М.: «Наука». 343 с.
- Древнейшие европейцы в центре Азии: Чемурчекский культурный феномен. Ч. I/Ред., сост. А. А. Ковалев. СПб.: ЛЕМА, 2014. 416 с.
- Древнейшие европейцы в центре Азии: Чемурчекский культурный феномен. Ч. II/Ред., сост. А. А. Ковалев. СПб.: ЛЕМА, 2015. 416 c.
- Зайцева Г. И., Посснерт Й., Алексеев А. Ю., Дергачев В. А., Семенцов А. А., 1997. Радиоуглеродные даты ключевых памяников Европейской Скифии//РиА. Вып. 2. СПб.: ИИМК РАН. С. 76-85.
- Зайцева Г. И. Чугунов, Алексеев А. Ю., Дергачев В. А., Васильев С. С., Кук Г. Т., Скотт Е. М., Ван дер Плихт Х., Боковенко Н. А., Кулькова М. А., Бурова Н. Д., Лебедева Л. М., Юнгер Х., Соннинен Э., 2007. История и результаты радиоуглеродного датирования кургана Аржан//Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях. СПб.: Теза. С. 251-262.
- Зуев В. Ю., 1993. Изучение жаботинских гравировок и проблема развития звериного стиля в европейской Скифии на рубеже VII-VI вв. до Р. Х.//ПАВ. № 6. С. 38-52.
- Иессен A. A., 1953. К вопросу о памятниках VIII-VII вв. до н. э. на юге европейской части СССР (Новочеркасский клад 1939 г.)//СА. Вып. 3. XVIII. С. 14-21.
- Иессен A. A., 1954. Некоторые памятники VIII-VII вв. до н. э. на Северном Кавказе//Вопросы скифо-сарматской археологии. М.: Изд-во АН СССР. С. 112-132.
- Капитонов И. Н., Лохов К. И., Бережная Н. Г, Матуков Д. И., Боковенко Н. А., Зайцева Г. И., Хаврин С. В., Чугунов К. В., Скотт Е. М., 2007. Комплексные изотопные исследования бронзовых изделий скифской эпохи из разных памятников Центральной Азии//РиА. Вып. 2. СПб.: ИИМК РАН. С. 274-282.
- Ковалев А. А., Эрдэнэбаатэр Д., Рукавишникова И. В., 2016. Состав и композиция сооружений ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн-Увэр (по результатам исследований 2013 года)//АЭАЕ. № 1. C. 82-92.
- Козинцев А. Г., 1998. Происхождение и родственные связи скифов по данным антропологии//Скифы. Славяне. Хазары. Древняя Русь: междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М. И. Артамонова: тез. докл. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 23-24.
- Козинцев А. Г., 2000. Об антропологических связях и происхождении причерноморских скифов//АЭАЕ. № 3. С. 145-152.
- Козинцев А. Г., 2007. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение//АЭАЕ. № 4. С. 143-157.
- Козинцев А. Г., 2008. Так называемые средиземноморцы Южной Сибири и Казахстана, индоевропейские миграции и происхождение скифов//АЭАЕ. № 4. С. 140-144.
- Козинцев А. Г., 2009. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой)//АЭАЕ. № 4. С. 125-136.
- Козинцев А. Г., 2010. Ранние индоевропейцы Сибири и Центральной Азии по данным антропологии//Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Томск: Аграф-Пресс. С. 419-421.
- Козинцев А. Г., Селезнева В. И., 2015. Вторая волна миграции европеоидов в Южную Сибирь и Центральную Азию (к вопросу об индоиранском компоненте в окуневской культуре)//Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 г. СПб.: МАЭ РАН. С. 418-429.
- Кулланда С. В., 2016. Скифы: язык и этногенез. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 232 с.
- Литвинский Б. А., 1972. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука. 269 с.
- Литвинский Б. А., 2000. Медные котелки из Индостана и Памира (древние связи двух регионов)//Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. М.: ГЕОС. С. 277-295.
- Лохов К. И. Бережная Н. Г., Матуков Д. И., Боковенко Н. А., Зайцева Г. И., Скотт Е. М., 2007. Состав стронция из древних захоронений Саяно-Алтая как индикатор места проживания и миграции//РиА. Вып. 2. СПб.: ИИМК РАН. С. 263-273.
- Медведская И. Н., 2010. Древний Иран накануне империй (IX-VI вв. до н. э.). История Мидийского царства. СПб.: Петербургское востоковедение. 262 с.
- Минасян Р.С., 2014. Металлообработка в древности и Средневековье. СПб.: Изд. Гос. Эрмитажа. 472 с.
- Пьянков И. В., 1997. Средняя Азия в античной историографической традиции. Источниковедческий анализ. М.: Изд. восточной литературы. 343 с.
- Раевский Д. С., 1983. Антропоморфные и зооморфные мотивы в репертуаре раннескифского искусства (К анализу предпосылок сложения скифского звериного стиля)//АСГЭ. Вып. 23. Л.: Искусство. С. 8-15.
- Раевский Д. С., 1985. К характеристике основных тенденции в истории скифского искусства//Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л.: Искусство. С. 27-35.
- Руденко С. И., 1961. Искусство Алтая и Передней Азии (середина I тысячелетия до н. э.). М.: Изд. восточной литературы. 88 с.
- Семенцов А. А., Зайцева Г. И., Герсдорф Й., Боковенко Н. А., Парцингер Г., Наглер А., Чугунов К. В., Лебедева Л. М., 1997. Вопросы хронологии памятников кочевников скифской эпохи Южной Сибири и Ценральной Азии//РиА. Вып. 2. СПб.: ИИМК РАН. С. 86-93.
- Стеблин-Каменский М. И., 1976. Миф. Л.: «Наука», 103 с.
- Фаркаш Э., 1992. Искусство кочевников в музеях США//ВДИ. № 4. С. 195-204.
- Чикишева Т. А., 2000. Вопросы происхождения кочевников Горного Алтая Эпохи раннего железа по данным антропологии//АЭАЕ. № 4 (4). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 107-121.
- Чикишева Т.А., 2008. К вопросу о формировании антропологического состава ранних кочевников Тувы//АЭАЕ. № 4 (36). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С.120-139.
- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.
- Шер Я. А., 1987. К вопросу о происхождении культур скифо-сибирского типа//Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: тез. докл. Всесоюзной конф. Омск: Изд. ОмГУ. С. 166-169.
- Шер Я. А., 1998. О возможных истоках скифо-сибирского зверного стиля//Вопросы археологии Казахстана. Вып. 2. Алматы; М.: Гылым. С. 218-230.
- Barnett, H. R., 1956. The Treasure of Ziwiye//Iraq. Vol. XVIII, pt. 2. P. 111-116.
- Bernard. P., 1976. A propos des bouterolles de fourreaux achemenides//Revue Archeologique. 2. P. 227-246
- Dyson R., 1963. Archaeological Scrap. Glimpses of History at Ziwiye//Expedition. № 5, 3. P. 32-37.
- Dyson R., 1966. Test Exavation at Ziwiyech, 1964//American Journal of Archaeology. Vol. 70.
- Farkash A., 1973. Sarmatian Roundels and Sarmatian Art//Museum Metropolitan Journal. Vol. 8. P. 77-80.
- Farkash A., 1977. Interpreting scythian Art: East and West//Artibus Asiae. Vol. XXXIX, no. 2. P. 124-138.
- Ghirshman R., 1950. Notes Iraniens, IV. Le tresor de Sakkes, les origines de l'art mede et les bronzes du Luristan//Artibus Asiae. Vol. 13, no. 3. P. 181-206.
- Ghirshman R., 1977. L'Iran et la migration des indo-aryens et des iraniens. Leiden: E. J. Brill. 88 p.
- Ghirschman R., 1979. La tombe princiere de Ziwyé et le debute de l'art animalier scythe. Paris/London, E. J. Brill, 114 p.
- Godard A., 1950. Le tresor de Ziwiye (Kurdistan). Haarlem: J. Enschedé. 136 p.
- Godard A., 1951. A propos du tresor de Ziwiye//Artibus Asiae. Vol. 14, no. 3. P. 240-245.
- Jettmar K., 1972. Die Steppenkulturen und die Indoiranier des Plateaus//Irania Antiqua. Vol. 9. P. 65-93.
- Jettmar K., 1979. Die zentralasiatische Entstehung des Tierstils//Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie. Bd. I. P. 145-158.
- Jettmar K., 1989. Animal style -a heraldic system in the Indus valley//Pakistan archaeology. № 24. Р. 257-277.
- Muskarella O., 1977. «Ziwiye» and Ziwiye: The Forgery of a Provenience//Journal of Field Archaeology. Vol. 4, no. 2. Р. 197-213.
- Sher J. A., 1988. On the sources of the Scythic Animal Style//Arctic Antropology. Vol. 25, no. 2. Р. 47-59.