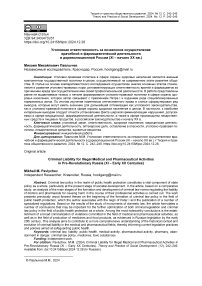Уголовная ответственность за незаконное осуществление врачебной и фармацевтической деятельности в дореволюционной России (XI - начало XX вв.)
Автор: Павлычев М.М.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Уголовно-правовая политика в сфере охраны здоровья населения является важным компонентом государственной политики в целом, осуществляемой на современном этапе развития общества. В статье на основе компаративистского исследования осуществлен анализ основных этапов становления и развития уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность врачей и фармацевтов за причинение вреда при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. В работе представлены ранее не выдвигаемые тезисы о начале формирования уголовно-правовой политики в сфере охраны здоровья населения, которое автор связывает с правлением Петра I и изданием ряда специализированных нормативных актов. По итогам изучения памятников отечественного права в статье сформулирован ряд выводов, которые могут иметь значение для дальнейшей оптимизации как уголовного законодательства, так и уголовно-правовой политики в сфере охраны здоровья населения в целом. В частности, к наиболее интересным выводам следует отнести установление факта широкой криминализации нарушений, допускаемых в сфере медицинской, фармацевтической деятельности, а также в сфере производства лекарственных средств и пищевых продуктов, в российском законодательстве к началу XX в.
Уголовный закон, ответственность, здоровье населения, медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность, аптекарское дело, оставление в опасности, уголовно-правовая политика, лекарственные средства, ядовитые вещества
Короткий адрес: https://sciup.org/149147626
IDR: 149147626 | УДК: 94:343(470):61 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.28
Текст научной статьи Уголовная ответственность за незаконное осуществление врачебной и фармацевтической деятельности в дореволюционной России (XI - начало XX вв.)
Уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступлениям против здоровья населения связана с целенаправленной деятельностью государства по формированию системы уголовно-правовых запретов (криминализации) и мер принуждения за их нарушение (пенализации), призванных обеспечить охрану названного социального блага.
В гл. 25 УК РФ размещены нормы, криминализующие деяния, связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ (ст. 228–232, 234–234² УК РФ), и деликты, связанные с нарушением медицинских и санитарно-эпидемиологических правил (ст. 233‒238¹ УК РФ). В совокупности они образуют систему уголовно-правовых гарантий обеспечения безопасности здоровья населения. Вместе с тем положения УК РФ 1996 г., устанавливающие ответственность лиц, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, отличаются явной фрагментарностью, пробельностью и коллизионностью. Практически отсутствует уголовно-правовая превенция в области соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, недостаточно четко определены юридические признаки составов преступлений, связанных с осуществлением врачебной и фармацевтической деятельности. Сложившаяся ситуация формирует необходимость совершенствования уголовно-правовой политики в указанном сегменте сферы охраны здоровья населения. Значительным потенциалом для поиска оптимальных моделей правовой регламентации уголовной ответственности за те или иные посягательства обладает компаративистский метод. В рамках данной работы обратимся к исследованию исторического опыта формирования уголовно-правовых основ противодействия преступлениям в сфере осуществления врачебной и фармацевтической деятельности.
Отечественное законодательство прошло длительный путь становления и развития, оно во многом отражает уникальный опыт российской правовой традиции, органично вбирающий в себя достижения мировой юриспруденции и специфику национального законодательства, что делает его уникальным и перспективным для учета при формировании новых правовых подходов к конструированию уголовного закона, в том числе и в части закрепления уголовно-правовых основ охраны здоровья населения. Уникальность данного опыта состоит в том, что государственная власть в России всегда стремилась к централизации и установлению государственного контроля за наиболее важными сферами жизнедеятельности общества, что, в свою очередь, формировало предпосылки для решения вопросов государственного строительства не только одномоментно, но и в большей степени на перспективу. Указанные процессы заложили объективные основы становления государственной политики во многих областях существования социума.
Формирование уголовно-правовой политики в сфере противодействия нарушениям установленных медицинских правил было связано с развитием медицинского и аптекарского дела в России. Обращает на себя внимание и тот факт, что на ее содержание и развитие значительное влияние оказала развернутая представителями христианства борьба с «народным целительством» как деятельностью, противоречащей канонам православия. С IX в. легальной признавалась лишь врачебная деятельность, осуществляемая в монастырях. В этой связи справедлив вывод М.Б. Мирского о том, что в религиозном сознании древности и средневековья болезнь представлялась наказанием человеку за грехи, а выздоровление – прощением таковых (Мирский, 2005: 29‒30). Под влиянием указанных процессов стали появляться нормативные запреты в отношении нарушителей правил обращения с «зельем». Так, в ст. 9 Устава князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных1 и ст. 9 Устава Святого князя Владимира, крестившего Руськую землю «О церковных судах»2, которые тождественны по содержанию, был установлен запрет на ведовство (колдовство); узлы (изготовление амулетов); зелье (изготовление ядов и колдовских зелий). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что дела об этих преступлениях были подсудны исключительно церковному суду. Вместе с тем, ошибочным представляется указание на то, что «одним из первых наиболее важных источников права Древней Руси является “Церковный Устав” 996 г. князя Владимира Святославича, который регулировал «монастырскую» медицину» (Биккинин, Ермоленко, 2021: 39). В данном источнике права соответствующие положения отсутствуют. Фрагментарные установления в законодательстве рассматриваемого периода дают основание для вывода о развитии и светских форм врачевания. В Изборнике черниговского князя Святослава 1073 г. были впервые определены компетенции врача3 : разрезать кожу, ампутировать конечности, прижигать раны и бороться с нагноением (Мирский, 2005: 29‒30). При этом право допетровского периода не различало умысла и неосторожности в действиях врача при неблагоприятном исходе лечения, так как врачевание на Руси в то время приравнивалось к «гаданию и чародейству» (Громов, 1976: 9‒10).
Несмотря на предпринимаемые усилия по искоренению «обрядового врачевательства», в указанный период сложилось три системы врачебной деятельности: церковная (монастырская); знахарство (запрещаемая государством) и светская. Негативно в целом оценивая проект, направленный на ограничение «знахарства» в России, Л.Б. Бертенсон указывал, что таким образом «... умышленно угнеталось развитие народного целительства» (Бертенсон, 1911: 1‒11).
Развитие медицины привело к развитию фармакологии, что способствовало появлению в России аптек. Государство на заре становления аптечного дела, понимая значимость вопросов здоровья населения и прежде всего элиты общества, которой поначалу и были доступны услуги аптекарей, а также решая фискальные задачи, стремилось к тотальному контролю за аптеками. Во второй половине XVI в. начала формироваться структура, которая к концу XVI в. стала именоваться Аптекарским приказом (Зимин, 2024). Согласно Аптекарским приказам осуществлялось различие между врачом (доктором) и лекарем. Лекарская школа при Аптекарском приказе была учреждена в 1654 г.1
Развитие светской медицины приводило к росту числа врачебных ошибок, а поскольку к услугам докторов прибегали представители высших слоев общества, то и непримиримая позиция относительно некачественной их деятельности не заставила себя долго ждать. Первый законодательный акт в рассматриваемой сфере был принят 4 марта 1686 г. ‒ Именной указ с боярским приговором «О наказании лекарей за умерщвление больных по умыслу и по неосторожности»2. В этом документе на казуистичном примере закреплялась позиция государства относительно правовой оценки умышленного и неосторожного причинения вреда при оказании лечебной помощи. В нем подчеркивалось, что причинение вреда вследствие врачебной ошибки не влечет ответственности. При причинении лекарем вреда умышленно он подлежит смертной казни3. Подобный подход был отражен и в Указе 14 февраля 1700 г. «О наказании незнающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным»4.
Значительное число отравлений препаратами, приобретенными в аптекарских лавках, побудили государство к принятию мер контроля, а также к установлению уголовной ответственности и за предоставление некачественных фармацевтических услуг. Так, П.Е. Заблудовский указывал, что в течение длительного периода хаотичного развития аптекарского дела на Руси (XVI– XIX вв.) нередки были случаи изготовления провизорами ядов, которыми активно пользовались злоумышленники для совершения преступлений (Заблудовский, 1966: 25). Однако уголовная ответственность за указанные деяния была введена лишь в XVII в. Ошибочно утверждение и о том, что «Судебник 1497 г., первый русский кодифицированный свод законов, впервые закрепил и отнес преступления в сфере медицинской деятельности к группе преступлений против личности» (Биккинин, Ермоленко, 2021: 39), так как он еще не имел структурирования по объектам уголовноправовой охраны. Помимо этого, не соответствует действительности и утверждение о том, что «... правовое регулирование ответственности медицинских работников за врачебные ошибки нашло свое отражение уже в Судебнике 1497 г.» (Гусамова, 2019: 200). Данный акт включал небольшое количество преступных деяний в состав группы преступлений против личности. К ним были отнесены: убийство, нанесение побоев, оскорбление словом и ябедничество (Страздина, 2017). Анализ нормативных положений Судебника 1497 г., посвященных убийству (ст. 8–10), отчетливо свидетельствует в пользу данного вывода. Судебники 1497 и 1550 гг. не содержали специальных норм относительно ответственности медицинских работников (Черников, 2020: 17).
Осуществленный анализ памятников отечественного права дает основание для вывода о том, что правовые основы государственной политики в сфере охраны здоровья населения начали формироваться в России уже в XVII в. В соответствии с «Наказом о градском благочинии» (1649), изданным Алексеем Михайловичем, в городах был организован государственный контроль: объезжие головы совместно с десятскими круглосуточно контролировали соблюдение запрета на потребление «табака» на улицах и в корчмах (Дьяков, 1999: 74).
Новый виток развития государственной политики в сфере охраны здоровья населения произошел во времена правления Петра I. Так, в частности, был издан первый в истории России нормативный акт, непосредственно посвященный регламентации фармацевтической деятельности ‒ Указ от 22 ноября 1701 г. «О заведении в Москве вновь осьми аптек с тем, чтоб в них никаких вин не было продаваемо; о введении оных Посольскому приказу и об уничтожении зелейных ла-вок»1. Им была упразднена торговля снадобьями в зеленных и москательных рядах. В 1763 г. появилась Медицинская коллегия, которая должна была «…искоренить из аптек лекарства, которые изобретены одним невежеством и все обыкновенные, которых велико число в аптеках, кроме вреда ничего не приносят и дорогостоящие»2. В 1789 г. был издан первый Аптекарский устав3, который упорядочивал правила работы аптек.
Первые уголовно-правовые запреты в сфере осуществления медицинской деятельности, в том числе и фармакологии, получили закрепление в Соборном уложении 1649 г. Так, в ст. 23 гл. XXII Соборного Уложения 1649 г. устанавливалась смертная казнь в случае отравления человека зельем4 . Созвучные положения закреплялись и в арт. 162 Артикула Воинского Петра I 1715 г., причем наказание устанавливалось весьма жестокое ‒ колесование5. Кроме того, Артикул устанавливал запрет на «чародейство» (арт. 2). Вместе с тем, оценивая источники того времени, следует учитывать сохранявшуюся высокую степень их казуистичности, вызванной недостаточным пока еще уровнем развития правовой доктрины и опыта формирования нормативных предписаний (законодательной техники). Так, характеризуя Артикул Воинский, А.Ф. Бернер справедливо указывал, что главное внимание законодательства централизовалось «на действиях, самих по себе вовсе не преступных… идея преступления в эпоху Петра была не правонарушение, не безнравственность поступка, а просто – неисправность в делах государевых»6.
Система норм об ответственности врачей содержалась в «Уставе морском о всём, что касается доброму управлению в бытности флота на море» 1720 г. (далее – Устав морской)7. В данном источнике вопросы оказания врачебной помощи регламентировались тремя главами: гл. 5 книги I «О докторе при флоте», гл. 6 книги I «О главном лекаре во флоте», гл. 10 книги ІІІ «О лекаре». В Уставе морском было впервые криминализовано ненадлежащее оказание врачебной помощи, повлекшее тяжкие последствия для больного. Согласно артиклю 9 гл. 10 книги III, «... ежели лекарь своим небрежением и явным презорством к больным поступит, от чего им бедство случится, то оной яко злотворец наказан будет, яко бы своими руками его убил, или какой уд отсек. Буде же леностию учинит, то знатным вычетом наказан будет, по важности и вине смотря в суде». Систематическое толкование этих положений свидетельствует о том, что в Уставе формировалась важная правовая парадигма, согласно которой врач, действовавший с должным вниманием и усердием, не подлежал ответственности в случае наступления неблагоприятного результата. Можно сказать, что закладывались основы института обоснованного риска.
В XIX в. произошло дальнейшее развитие института уголовной ответственности за посягательства на здоровье населения. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее – Уложение)8 содержало главу «О преступлениях и проступках против постановлений, ограждающих народное здоровье». В данном источнике произошло обособление раздела ‒ отделения восьмого «О нарушении Уставов врачебных». В нем был объединен широкий круг предписаний, касающихся деятельности лиц, оказывающих медицинские услуги (врач, оператор, акушер или повивальная бабка), и фармацевтов. В ст. 1083 Уложения устанавливалась ответственность за непрофессионализм лиц, осуществляющих оспопрививание9. Обращает на себя внимание широкая криминализация бездействия со стороны врача. Так, в ст. 1084‒1086 Уложения к числу наказуемых были отнесены: безосновательное уклонение от явки по вызову больного; непредоставле- ние соответствующей медицинской помощи; уклонение от требований полиции осуществить судебно-медицинское исследование или оказание помощи. В данном источнике присутствовал специальный состав недоносительства о выявленных ими упущениях, беспорядках или злоупотреблениях фармацевтов (ст. 1087 Уложения)1. Отдельные нормы документа регламентировали ответственность «повивальной бабки». К числу наказуемых относились: нарушение запрета на прерывание беременности (ст. 1090), что влекло наказание в виде заключения в тюрьму на срок от 3 до 6 месяцев; недонесение или несвоевременное донесение врачу о смерти роженицы (ст. 1092).
Целый ряд норм отделения 8 Уложения устанавливали ответственность фармацевтических работников (ст. 1093–1113). Так, были криминализованы: открытие аптеки без надлежащего разрешения (ст. 1093); самовольное изменение места расположения аптеки (ст. 1094); незаконное изготовление лекарств в аптеке (ст. 1095); продажа лекарственных средств в ненадлежащей форме (ст. 1096); недостача, допущенная управляющим аптеки (ст. 1097); нарушение правил хранения и оборота сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 1098); производство и продажа в аптеке водки, ликера и иных алкогольных напитков, влекущие ответственность управляющего аптекой (ст. 1100); уклонение управляющего аптекой от осуществления порученных химико-судебных исследований (ст. 1101); ведение управляющим аптекой нетрезвого образа жизни и проявление им нерадивости к должности (ст. 1103); невыполнение фармацевтами и учениками указаний управляющего аптеки (1104); нарушение требований в сфере изготовления лекарственных средств (ст. 1105); изготовление «секретных лекарств» (ст. 1106); нарушение правил отпуска лекарств (ст. 1107‒1112); получение вознаграждения сверх стоимости лекарства (ст. 1113).
Несмотря на столь прогрессивный виток в развитии уголовно-правовой охраны здоровья граждан, одним из существенных недостатков указанных установлений Уложения, по мнению Н.С. Таганцева, являлась чрезмерная казуистичность их изложения (Таганцев, 1887: 188). Преодолеть данную проблему законодатель попытался в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. (далее – Устав)2 и Уголовном Уложении 1903 г. (далее – Уголовное Уложение).
В Уставе в главе девятой «О проступках против народного здравия» в ст. 104 устанавливалась ответственность за врачевание, осуществляемое лицом, не имеющим на это права, при условии наступления вреда и установления корыстных мотивов виновного. В ст. 106 были криминализованы незаконное изготовление для продажи и продажа лекарственных средств3.
В Уголовном Уложении также была выделена самостоятельная глава 9 «О нарушении постановлений, ограждающих народное здоровье» (ст. 195–221)4. В данном источнике к числу наказуемых были отнесены: незаконное занятие врачебной практикой (ст. 195); отказ повивальной бабки от вызова врача (ст. 196); незаконное изготовление для продажи сложных фармацевтических препаратов и лекарств (ст. 197); нарушение правил отпуска лекарств (ст. 198–199); нарушение управляющим аптекой правил отпуска лекарств (ст. 200‒201); прием управляющим аптекой на должность фармацевта лица, не имеющего права на осуществление этой деятельности (ст. 203); нарушение правил хранения и продажи ядовитых или сильнодействующих веществ (ст. 204‒205); неисполнение обязанности сообщать о выявлении фактов заразных болезней (ст. 206); нарушение требований по охране народного здоровья (ст. 207); нарушение лицом, осуществляющим торговлю продовольственными товарами, требований о чистоте (ст. 209); нарушение лицом, осуществляющим торговлю, запрета на подделку продовольственных товаров (ст. 210); нарушение лицом, осуществляющим торговлю, запрета на производство вредных продовольственных товаров (ст. 211); реализация хлеба с вредными примесями лицом, осуществляющим торговлю (ст. 212); несоблюдение лицом, осуществляющим торговлю, требований о предотвращении порчи хлеба и муки (ст. 213); нарушение требований изготовления, хранения и продажи маргарина, искусственного масла и иных жиров (ст. 214); нарушение правил производства или привоза из-за границы сладких веществ (ст. 215); добавление примесей к русскому чаю (ст. 216); изготовление и хранение поддельного чая (ст. 217); разбавление лицом, осуществляющим торговлю, пива водой (ст. 218); порча питьевой воды (ст. 220); нарушение правил погребения умерших (ст. 221).
Помимо указанной главы, нормы, регламентирующие ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, содержались в иных главах Уголовного Уложения. Так, ст. 464 содержала указание на то, что к числу обстоятельств, отягчающих ответственность, относится неосторожное причинение смерти в результате невыполнения виновным правил, установленных законом или обязательным постановлением для его рода деятельности в ограждение личной безопасности. Аналогичное положение было закреплено и в ст. 474, криминализующей неосторожное причинение телесного повреждения. Наказуемость умерщвления плода врачом или повивальной бабкой устанавливалась ст. 466. Подобный подход следует признать более точным с точки зрения правовой оценки преступления, нежели современный, согласно которому деяние расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью матери. Кроме того, согласно ст. 497 Уголовного Уложения (гл. 25 «Оставление в опасности») ответственности подлежал врач, не оказавший помощи больному или лицу, находящемуся в бессознательном состоянии.
Обращает на себя внимание значительное количество норм, устанавливающих ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а равно правил торговли, обеспечивающих охрану здоровья населения. Подобный законодательный опыт в Уголовном Уложении был реализован впервые, он свидетельствует о прогрессивном мышлении законодателя, его беспокойстве о здоровье населения. К сожалению, действующий отечественный уголовный закон уступает в указанной части историческим аналогам.
Осуществленный исторический экскурс позволяет сформулировать ряд выводов.
-
1. Становление уголовно-правовой политики противодействия преступлениям в сфере здоровья населения в дореволюционный период происходило на протяжении длительного вре-меннóго периода, хронологически охватив собой X – начало XX вв. Однако, несмотря на столь значительный охват времени, выработанные изначально подходы к формированию ее содержания оставались в основе своей неизменными и заключались в нетерпимом отношении государства к нелегальным формам врачевания (знахарству, чародейству, ведовству и т. п.); в криминализации наиболее опасных нарушений правил оказания медицинской помощи, неоказания таковой больному, нарушения правил осуществления фармацевтической деятельности, производства и хранения продовольственных товаров, производства, хранения и продажи ядовитых и сильнодействующих веществ.
-
2. История становления уголовно-правовой политики противодействия преступлениям в сфере здоровья населения прошла следующие этапы:
-
‒ период зарождения (X‒XVII вв.): систематизация деятельности по оказанию медицинской помощи на три разновидности: церковное врачевание (клирикальное или монастырское); знахарство (запрещаемое государством, законом и церковью), а также светское врачевание и аптечное дело (одобряемое и контролируемое государством); появление первых законодательных, в том числе уголовно-правовых, запретов на ведовство (колдовство); узлы (изготовление амулетов); зелье (изготовление ядов и колдовских зелий) (ст. 9 Устава князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных и ст. 9 Устава князя Владимира Мономаха «О десятинах, судах и людях церковных» (XI‒XII вв.)); упоминание в законе о врачах (ст. 2 Русской правды); установление уголовной ответственности за отравление зельем (ст. 23 Соборного уложения 1649 г.);
-
3. В целом следует констатировать, что российское государство начиная со второй половины XVII в., в том числе с привлечением уголовно-правовых средств, последовательно реализовывало политику обеспечения безопасности здоровья населения, ограждения его от возможных эпидемиологических угроз, эпизоотий, потребления некачественных и небезопасных продовольственных товаров. К началу XX в. в России были созданы правовые основы обеспечения охраны здоровья населения, реализовывалась целостная уголовно-правовая политика в данной сфере.
‒ период развития (XVIII‒XIX вв.): образование Аптекарского приказа (1581 и 1620 г.); установление государственного контроля за аптеками (Указ от 22 ноября 1701 г. «О заведении в Москве вновь осьми аптек с тем, чтоб в них никаких вин не было продаваемо; Аптекарский устав 1789 г.); установление государственного контроля за потреблением табака и иного зелья («Наказ о градском благочинии» (1649)1); появление казуистичных нормативных предписаний об ответственности за врачебную ошибку (именные указы с боярским приговором «О наказании лекарей за умерщвление больных по умыслу и по неосторожности» от 4 марта 1686 г. и от 14 февраля 1700 г.2); формирование в законодательстве системы уголовно-правовых запретов в сфере врачевания3;
‒ период закрепления государственного контроля и оформления правовых основ (XIX – начало XX вв.): установление государственного контроля за оборотом готовых лекарственных форм (акт «О порядке продажи ядовитых веществ и аптекарских материалов» 1813 г.4); передача контроля за соблюдением правил в сфере охраны здоровья населения Министерству внутренних дел (Врачебный устав 1857 г.5); формирование развернутой и комплексной системы уголовно-правовых запретов (глава «О преступлениях и проступках против постановлений, ограждающих народное здо- ровье» Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.1; гл. 9 «О нарушении постановлений, ограждающих народное здоровье» в Уголовном Уложении 1903 г.2); начало формирования институтов и обоснованного риска; криминализация оставления в опасности, нарушения санитарноэпидемиологических правил и прав потребителей на безопасные продукты питания).
Список литературы Уголовная ответственность за незаконное осуществление врачебной и фармацевтической деятельности в дореволюционной России (XI - начало XX вв.)
- Бертенсон Л.Б. Несколько слов о знахарском и шарлатанском врачевании и о германском законопроекте, направленном к ограничению вреда от такого врачевания // Журнал русского общества охраны народного здравия. 1911. № 2. С. 1-11.
- Биккинин И.А., Ермоленко Т.В. Основные направления становления правового регулирования уголовной ответственности за незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности // Право: ретроспектива и перспектива. 2021. № 1 (5). С. 38-44.
- Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников. М., 1976. 168 c.
- Гусамова Д.А. Развитие института уголовной ответственности за злоупотребления на фармацевтическом рынке в России // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2019. Т. 161, кн. 1. С. 199-205. https://doi.org/10.26907/2541-7738.2019.1.199-205.
- Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность : монография. М., 1999. 307 с.
- Заблудовский П.Е. История медицины и здравоохранения: (Содержание лекций) : в 3 вып. М., 1966. Вып. 1. 65 с.
- Зимин И.В. Деятельность аптекарского приказа при первых Романовых [Электронный ресурс] // Пятые ежегодные Пермские научно-образовательные чтения «История Императорского Дома Романовых. К 410-летию Дома Романовых и 300-летию города Перми»: материалы международной научной конференции (г. Пермь, 13-14 июня 2023 г.) / под ред. А. В. Громовой, С. В. Неганова. 2024. URL: https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/doklady-romanovskie-chteniya-2024-2/istoriya-imperatorskogo-doma-romanovyh-k-410-letiyu-doma-romanovyh-i-300-letiyu-goroda-permi/zimin-i-v-deyatelnost-aptekarskogo-prikaza-pri-pervyh-romanovyh.html (дата обращения: 12.11.2024).
- Мирский М.Б. Медицина России Х-ХХ веков: очерки истории. М., 2005. 631 c.
- Страздина Т.С. Преступления против личности по Судебнику 1497 г. [Электронный ресурс] // Sci-article.ru. 2017. URL: https://sci-article.ru/stat.php?i=1491246604 (дата обращения: 11.11.2024).
- Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву: часть общая : в 3 т. СПб., 1887. Т. 1. 380 с.
- Черников Е. Развитие законодательства об уголовной ответственности медицинских работников на территории Украины с древнейших времен до начала ХХ века // Revista na^ionala de drept. 2020. № 1-3. С. 15-21. https://doi.org/10.5281/ze-nodo.3943281.