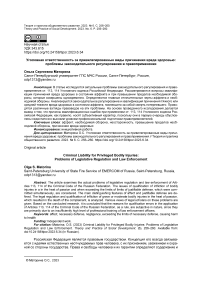Уголовная ответственность за привилегированные виды причинения вреда здоровью: проблемы законодательного регулирования и правоприменения
Автор: Маторина Ольга Сергеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются актуальные проблемы законодательного регулирования и правоприменения ст. 113, 114 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматриваются вопросы квалификации причинения вреда здоровью в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой обороны, которые совершены одновременно. Определяются главные отличительные черты аффекта и необходимой обороны. Анализируется законодательное регулирование и квалификация причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Приводятся различные взгляды правоведов на эти проблемы. На основе проведенного исследования делается вывод о том, что причины квалификационных ошибок при применении ст. 113, 114 Уголовного кодекса Российской Федерации, как правило, носят субъективный характер, поскольку они в первую очередь обусловлены недостаточно высоким уровнем профессиональной подготовки правоприменителей.
Аффект, необходимая оборона, неосторожность, превышение пределов необходимой обороны, причинение вреда здоровью
Короткий адрес: https://sciup.org/149142645
IDR: 149142645 | УДК: 343.615 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.34
Текст научной статьи Уголовная ответственность за привилегированные виды причинения вреда здоровью: проблемы законодательного регулирования и правоприменения
направленность деятельности российского государства, которое несет за это ответственность перед гражданами.
Главная обязанность государства – охранять жизнь и здоровье человека. Одним из наиболее эффективных инструментов ее реализации выступает уголовная ответственность за преступления, ставящие их под угрозу. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)1 им посвящена глава 16, имеющая соответствующее наименование – «Преступления против жизни и здоровья». В ней особо выделяются так называемые привилегированные составы преступлений против жизни и здоровья. В данном случае термин «привилегированный» означает, что в состав преступления включены определенные смягчающие обстоятельства, которые позволяют назначать лицу, их совершившему, менее суровое уголовное наказание.
Закрепление в главе 16 УК РФ привилегированных составов преступлений против жизни и здоровья свидетельствует о том, что российский законодатель стремится максимально полно учитывать все обстоятельства совершенного общественно опасного деяния для назначения виновному лицу справедливого уголовного наказания.
В действующем уголовном законодательстве можно выделить два привилегированных состава, которые связаны с причинением вреда здоровью. В частности, это ст. 113, 114 УК РФ. Обстоятельствами, которые отечественный законодатель включает в эти привилегированные составы, являются: 1) состояние аффекта (ст. 113 УК РФ); 2) необходимая оборона и задержание лица, которое совершило противоправные действия (ст. 114 УК РФ). Учет их позволяет смягчить уголовное наказание для лица, которое причинило вред здоровью, но при определенных условиях.
Таким образом, в конструировании привилегированных составов причинения вреда здоровью проявляется принцип дифференциации уголовной ответственности как базовое начало уголовного законодательства в любом правовом и демократическом государстве. Данная дифференциация всегда предполагает существование нескольких уголовно-правовых норм, признаки которого может содержать совершенное преступление. Это в свою очередь создает определенные проблемы при квалификации таких преступлений.
В правоприменительной деятельности есть сложности, связанные с ситуациями, когда при причинении вреда здоровью обнаруживаются аффект и необходимая оборона одновременно. Так, в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 192 отмечается, что в случае, когда аффект и превышение пределов необходимой обороны во временном промежутке совпадают, подлежит применению ч. 1 ст. 114 УК РФ.
С другой стороны, несмотря на указанное разъяснение, на практике имеют место ситуации, когда при аналогичных обстоятельствах уголовного дела суды в одном случае квалифицируют деяние по ст. 113 УК РФ, а в другом – по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Сказанное можно проиллюстрировать следующими примерами.
-
1. Между К. и ее сожителем Т. 20.07.2020 возникла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе нее Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил К. удары фрагментом металлической трубы по рукам и телу К. Последняя, защищаясь от противоправного посягательства, схватила со стола кухонный нож, используя его в качестве оружия, нанесла им один удар в область живота Т., причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, К. во время инкриминируемого преступления находилась в состоянии физиологического аффекта, что могло существенно повлиять на ее способность осознавать свои действия и управлять ими. Однако суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 114 УК РФ3.
-
2. В ходе конфликта между М. и ее сожителем С., который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно затеял ссору, избил ее, причинив ей легкие телесные повреждения, оскорблял ее нецензурными словами, унижал честь и достоинство, повлекшее сильное душевное волнение у М. В результате последняя схватила нож и нанесла С. два удара в область грудной клетки, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью С. Суд квалифицировал данные действия М. по ст. 113 УК РФ4.
Анализ материалов вышеупомянутых уголовных дел свидетельствуют о том, что виновные лица (К. и М.) в обоих случаях одновременно находились в состоянии сильного душевного волнения и действовали с превышением пределов необходимой обороны. Однако суды квалифицировали такое поведение по-разному. Полагаем, что такая ситуация в правоприменительной практике является недопустимой.
Действительно, при рассмотрении отдельных уголовных дел иногда бывает трудно разграничить состояние аффекта и необходимую оборону, потому что они имеют много общих признаков и очень часто лицо, находящееся в ситуации применения необходимой обороны, одновременно пребывает и в состоянии аффекта.
Выделяя последнее как признак, который при определенных обстоятельствах смягчает ответственность за причинение вреда здоровью, отечественный законодатель исходит из психического состояния лица, которое в определенной степени ограничивает его способность осознавать свои действия и управлять ими. Насилие со стороны потерпевшего может вызвать особое, аффективное состояние лица, во время которого оно может нанести телесные повреждения потерпевшему. Следовательно, такие действия имеют сходство с поведением при необходимой обороне.
Мотивация преступника – это, на наш взгляд, главный критерий, на основании которого можно различать ст. 113 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. Если брать необходимую оборону, то там виновное лицо движимо стремлением защитить частные (свои, другого человека) и публичные (государственные) интересы.
В случае с аффектом мотивы иного рода. В частности, ими может быть признана злость, ярость и др., вследствие которых человек перестает контролировать себя и свое поведение.
Есть еще один важный момент. Как правило, в случае аффекта поведение лица, которому в итоге причинен вред здоровью (т.е. потерпевшего), имеет более высокую общественную опасность, чем при необходимой обороне. Это подтверждается как раз тем, что такое поведение потерпевшего способствует появлению у другого человека настолько сильных негативных эмоций, что он идет на преступление. Кроме этого, превышение пределов необходимой обороны, на наш взгляд, в большинстве случаев также сопровождается волнением обороняющегося лица, однако это волнение не препятствует основной цели – отразить нападение, защитить себя от посягательства.
Значимой проблемой в применении рассматриваемых уголовно-правовых норм является также вопрос о том, как квалифицировать причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, если оно повлекло за собой смерть потерпевшего. Отечественный законодатель в УК РФ отдельного состава не выделяет. При этом в ст. 113 УК РФ такого квалифицирующего признака также нет.
Единства позиций в решении вышеупомянутой проблемы невозможно сегодня найти ни в доктрине, ни в практике. Например, по убеждениям А.И. Коробеева, в указанной ситуации подлежит применению исключительно ст. 113 УК РФ. В случае же причинения в состоянии аффекта через неосторожность смерти или вреда здоровью потерпевшего, действия следует квалифицировать по ст. ст. 109, 118 УК РФ, но при этом наличие аффекта должно учитываться судом при назначении уголовного наказание как смягчающее обстоятельство (Коробеев, 2012: 152).
Есть правоведы, которые не соглашаются с вышеуказанной позицией, отмечая, что квалификация действий виновного должна осуществляться по совокупности преступлений, а именно: за причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ и убийство по неосторожности (ст. 109 УК РФ), а состояние аффекта при убийстве нужно расценивать как обстоятельство, смягчающее наказание (Боровских и др., 2022: 200). Аргументируя свою позицию, эти ученые подчеркивают, что если в диспозиции нормы УК РФ нет указания на ответственность за действие, повлекшее за собой дополнительные последствия, но они все же наступили, виновно и причинно связанные с действиями преступника, то они должны подлежать самостоятельной уголовно-правовой оценке по норме УК РФ, в которой закреплены эти последствия. Пренебрежение данным правилом, на их взгляд, способно привести к нарушению принципа неотвратимости наказания, поскольку противоправные действия, повлекшие дополнительные, более тяжкие последствия и составляющие самостоятельное преступление, фактически остаются безнаказанными (Боровских и др., 2022: 200).
Мы солидарны с В.А. Казаковой, которая отмечает, что причинение вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего, является разновидностью одного общего понятия – «причинение вреда здоровью» (Казакова, 2018: 195). Таким образом, когда в ст. 113 УК РФ говорится о причинении вреда здоровью, то, помимо прочего, имеются в виду и последствия, предусмотренные ст. 111 УК РФ. Поэтому данное действие необходимо квалифицировать лишь по ст. 113 УК РФ.
Позицию по квалификации анализируемого действия только по ст. 113 УК РФ поддерживают и другие правоведы1. Считаем, что целесообразность такой квалификации объясняется тем, что в состоянии аффекта лицо может предвидеть лишь ближайшие последствия своего деяния. Тяжкий вред здоровью, если он в конечном счете приводит к наступлению смерти человека, отличают два последствия и двойная форма вины. В случае с последствиями нами имеются в виду: 1) тяжкий вред здоровью – первое последствие; 2) смерть – второе, более отдаленное во временном пространстве. К последствию в виде причинения тяжкого вреда здоровью лицо относиться умышленно, а к наступлению смерти – неосторожно. Следовательно, возникает другой вопрос: следует ли вообще признавать уголовно наказуемым причинение в состоянии аффекта смерти по неосторожности?
По мнению Т.Г. Шавкулидзе, с учетом психологических характеристик данного состояния исключается такой вид неосторожной формы вины, как преступная самоуверенность, однако вполне возможна преступная халатность. Однако он отмечает, что и ее установление в таком состоянии, как правило, редкость, поэтому считает, что в случае совершения преступления по неосторожности в результате аффективного восприятия действительности уголовная ответственность должна наступать на общих основаниях, но с учетом психоэмоционального состояния виновного лица как обстоятельства, смягчающего его уголовную ответственность2.
П.Б. Афанасьев признает возможным установление неосторожной формы вины в тех случаях, когда лицо действовало в состоянии аффекта, он не делает исключений ни для какого состава преступления и предлагает дополнить ст. 113 УК РФ квалифицированным видом этого состава преступления – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшее смерть по неосторожности3.
На наш взгляд, вопрос о возможности установления неосторожной формы вины в действиях лиц, совершивших противоправные действия в состоянии аффекта, должен решаться, прежде всего, с учетом психологических характеристик такого эмоционального состояния. Таким образом, полагаем, что в состоянии аффекта лицо способно осознавать лишь ближайшие последствия своего поведения, оно действует в таких случаях в большей степени импульсивно. С учетом психологических характеристик данного эмоционального состояния такой вид неосторожной формы вины, как преступная самоуверенность, исключается. Мы считаем, что исключается также наличие вины в виде преступной халатности, поскольку аффект, характеризующийся сужением сознания, делает невозможным предвидение лицом, находящимся в состоянии аффекта, последствий своих противоправных действий, что выступает обязательным признаком преступной халатности.
Решение вопроса об уголовно-правовой оценке причинения вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшего за собой смерть потерпевшего, обуславливает также необходимость выяснения проблемы отграничения данного преступления от убийства, совершенного в состоянии аффекта. Основным вопросом уголовно-правовой оценки совершенного деяния в таком случае является установление направленности умысла виновного лица.
Для того чтобы ответить на него, нужно анализировать не одно, два, а целую совокупность, систему факторов, которые характеризуют совершенное противоправное посягательство. В эту систему факторов входит информация о способах, орудиях преступления, численности ранений, их месторасположении на теле убитого, взаимоотношениях преступника и потерпевшего, мотивах первого из названных, которые обусловили его противоправное поведение. При этом, самое главное здесь – это, безусловно, отношение самого преступника к результату его противоправного поведения, смерти. Если оно носит неосторожный характер, то это причинение вреда здоровью. Если же был умысел на наступление смерти, то деяние должно быть квалифицировано как убийство.
Юридической наукой выработано несколько признаков, которые позволяют ответить на вопрос об умысле на причинение смерти. В частности, этими признаками выступают:
-
1) направленность физических действий, которые преступник непосредственно осуществлял в отношении потерпевшего (грудная клетка, живот, шея и т.п.);
-
2) характеристика орудий и средств, которые использовал преступник;
-
3) интенсивность ударов, ранений, иных повреждений (Казакова, 2018: 212).
Итак, если в действиях преступника, повлекших за собой смерть потерпевшего, будут иметься любые из указанных признаков, то их следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ, и, наоборот, если они будут отсутствовать, то это свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенного противоправного посягательства, и такие действия следует квалифицировать по ст. 113 УК РФ.
Стоит иметь в виду, что для применения ст. 107 УК РФ не имеет никакого юридического значения промежуток времени между нанесением ранений, иных телесных повреждений и наступлением смерти, если имел место умысел на убийство.
В заключение отметим, что, по нашему мнению, причины квалификационных ошибок при реализации ст. 113, 114 УК РФ, как правило, являются субъективными, так как они прежде всего возникают из-за неправильного понимания различий между состоянием аффекта и необходимой обороной, неверных представлений о соотношении состояния аффекта и неосторожной формы вины. Таким образом, полагаем, что эффективным способом устранения квалификационных ошибок при применении ст. 113, 114 УК РФ может стать улучшение качества профессиональной подготовки следователей и судей, которые работают с данными уголовно-правовыми нормами.
Список литературы Уголовная ответственность за привилегированные виды причинения вреда здоровью: проблемы законодательного регулирования и правоприменения
- Боровских И.Ю., Таилова А.Г., Абакарова Б.Г. Особенности квалификации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью при наличии смягчающих вину обстоятельств // Евразийский юридический журнал. 2022. № 11 (174). С. 199-201.
- Казакова В.А. Проблемы квалификации преступлений против здоровья. М., 2018. 436 с.
- Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М., 2012. 320 с.