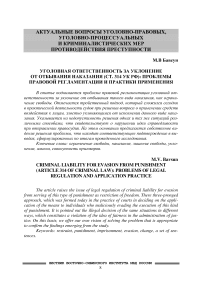Уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания (ст. 314 УК РФ): проблемы правовой регламентации и практики применения
Автор: Бавсун М.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Статья в выпуске: 1 (80), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается проблема правовой регламентации уголовной ответственности за уклонение от отбывания такого вида наказания, как ограничение свободы. Отмечается тройственный подход, который сложился сегодня в практической деятельности судов при решении вопроса о применении средств воздействия к лицам, злостно уклоняющимся от исполнения данного вида наказания. Указывается на недопустимость решения одних и тех же ситуаций различными способами, что свидетельствует о нарушении идеи справедливости при отправлении правосудия. На этом основании предлагается собственное видение решения проблемы, что находит соответствующее подтверждение в выводах, сформулированных по итогам проведенного исследования.
Ограничение свободы, наказание, лишение свободы, уклонение, замена, совокупность приговоров
Короткий адрес: https://sciup.org/14335802
IDR: 14335802
Текст научной статьи Уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания (ст. 314 УК РФ): проблемы правовой регламентации и практики применения
На сегодняшний день в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) устанавливается ответственность за уклонение от двух видов наказаний. В ст. 314 УК РФ речь идет об ограничении и лишении свободы, при этом законодатель не считает общественно опасным уклонение от иных видов наказаний, установленных в ст. 44 УК РФ. В этой связи возникает как минимум два вопроса, ответы на которые не представляются столь очевидными. Во-первых, остается не совсем понятным, чем общественная опасность уклонения от наказания в виде ограничения свободы (даже и назначенного в качестве дополнительного наказания) выше по отношению к опасности, исходящей в результате уклонения от других, более строгих видов наказаний [1. С. 23]. На данный момент в системе наказаний, расположенных, как известно, по принципу от менее к более строгому, после ограничения свободы указаны принудительные работы, арест и содержание в дисциплинарной воинской части. Далее следуют уже не интересующие нас в решении данной проблемы лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь. В свою очередь лишение свободы на определенный срок всегда выступало в качестве составообразующего признака ст. 314 УК РФ, а уклонение от пожиз- ненного лишения свободы и смертной казни невозможно априори в силу специфики их исполнения.
Интересно, что «перестройка» данной статьи произошла относительно недавно, в 2012 г., когда ее первая часть была образована на основе такого наказания, как ограничение свободы, а уклонение от лишения свободы «ушло» в состав ч. 2 ст. 314 УК РФ. Между тем принудительные работы как самостоятельный вид наказания, уклонение от которого также вполне возможно, были включены в УК РФ в 2011 г., что, по идее, могло быть учтено законодателем в процессе предложений, направленных на изменение ст. 314 УК РФ. Возможность уклонения от исполнения данного вида наказания подтверждается и самим законодателем, на что обращается соответствующее внимание в ч. 6 ст. 531 УК РФ и ст. 6017 УИК РФ. В то же время указанное средство воздействия на лицо, совершившее преступление, в отличие от ограничения свободы остается не наказуемым, а его трансформация возможна лишь в порядке замены, что регламентируется перечисленными выше нормами. В свою очередь это порождает возникновение второго вопроса, насколько вообще обоснована самостоятельная ответственность за уклонение в какой бы то ни было форме от исполнения наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного? В этой связи вполне возможно речь необходимо вести не о включении в диспозицию ч. 1 ст. 314 УК РФ иных (помимо ограничения свободы) видов наказаний, как незаслуженно забытых, а наоборот, о ее декриминализации и возврате к предыдущей редакции статьи. Дело в том, что до 2012 г. ст. 314 УК РФ состояла из одной части, в рамках которой регламентировалась ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы.
Представляется, что демонстрируемый до 2012 г. законодательный подход к решению проблемы уклонения от исполнения различных видов наказаний был вполне обоснованным и в большей мере соответствовал установленному в ст. 45 УК РФ статусу самих наказаний. Сам факт существования ст. 314 УК РФ в ее прежнем виде не вызывал каких-либо сомнений в силу отсутствия даже теоретической возможности замены наказания в виде лишения свободы на определенный срок другим средством воздействия на уже осужденное лицо. Между тем такое воздействие всегда требовалось и чуть ли не единственным способом, создающим реальную угрозу для уклоняющегося, всегда являлась реальная возможность назначения нового наказания уже за сам факт уклонения. И если проблема уклонения от других, менее строгих видов наказания также традиционно решалась за счет их замены на лишение свободы, то с самим лишением свободы вполне естественно нельзя было поступить аналогичным образом, где проблема невозможности замены могла быть решена только одним способом – новым наказанием. Отсюда и логичность существования ст. 314 УК РФ в части правовой регламентации в ее рамках ответственности за уклонение от данного, а не любого иного вида наказания [2. С. 208–209].
В этой связи появление в статье ограничения свободы, которое может выступать согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ как в качестве основного, так и дополнительного наказания, не может не вызывать вполне обоснованных вопросов. При этом установленный в примечании к ст. 314 УК РФ статус данного наказания как дополнительного не только не позволяет дать на них ответы, но и, наоборот, провоцирует возникновение новых проблем. В частности, сложно согласиться с тем, что один и тот же вид наказания, но в различных статусах (основной или дополнительный) может служить причиной принципиально различных правовых последствий для лица, который виноват по сути в одном и том же – уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. И в данном случае уже неважно, в каком качестве было назначено это наказание, важно другое – осужденный в обоих случаях уклоняется от одного и того же его вида. Однако в ситуации его назначения в качестве основного происходит замена на более строгий вид наказания (ч. 5 ст. 53 УК РФ), а в другом – осуществляется квалификация по новому составу преступления (ст. 314 УК РФ), влекущая за собой и соответствующие правовые последствия. В таких случаях происходит назначение нового наказания и его сложение в порядке ст. 70 УК РФ, что обусловлено действующим на момент принятия решения ранее вынесенного обвинительного приговора суда. Между тем это совершенно разные последствия, с которыми приходится сталкиваться и виновному, и самому правоприменителю. Отличия, начиная от различного статуса принимаемых решений и заканчивая собственно тяготами и лишениями, которые придется претерпевать уклоняющемуся от наказания, принципиальны, и не могут быть объяснены с позиции статуса наказания. Особенно это касается случаев, когда ограничение свободы было применено судом в качестве дополнительного к лишению свободы на определенный срок. С учетом того, что на момент реализации ограничения свободы лицо уже должно частично или полностью отбыть наказание в виде лишения свободы, то злостное уклонение от его исполнения повлечет за собой сложение (в случае частично отбытого лишения свободы), а не замену. Либо ситуа- ция при полностью отбытом наказании в виде лишения свободы или принудительных работ повлечет за собой самостоятельное наказание опять же указанных видов, которые в порядке ч. 4 ст. 69 УК РФ должны будут складываться.
Применение положений ст. ст. 69, 70 УК РФ всегда влечет за собой ухудшение положения лица, совершившего преступление, причем ухудшение обусловленное именно сложением нескольких видов наказаний, а не заменой одного на другое. В юридической литературе совершенно справедливо отмечается, что с позиции социальной необходимости правила назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров должны быть сформулированы таким образом, чтобы итоговый размер наказания соответствовал не только объективной общественной опасности совершенных преступлений, но и повышенной опасности лица, совершившего новое преступление в период отбывания наказания за предыдущее деяние [3. С. 33]. Однако вряд ли в нашем случае можно вести речь о какой-либо повышенной опасности лица, уклоняющегося от дополнительного наказания в виде ограничения свободы, по сравнению с такими же действиями, но применительно к этому же наказанию уже в статусе дополнительного. В то же время у правоприменителя практически не остается выбора кроме как применять заведомо более жесткие правила, указанные в рамках ст. 70 УК РФ. Хотя надо отметить, закон в данном случае неоднозначен, что порождает возникновение еще более противоречивых ситуаций. Дело в том, что в ч. 4 ст. 69 УК РФ, регламентирующей присоединение дополнительных видов наказаний, отмечается, что таковые могут быть присоединены, а могут быть и не присоединены. Достаточно сказать, что данное положение в соответствии с ч. 5 ст. 70 УК РФ имеет силу и при совокупности приговоров. Между тем именно такое формулирование законодательного предписания, направленного на решение данного вопроса, применительно к рассматриваемому случаю позволяет подойти к его практической реализации максимально неоднозначно, когда одна и та же фактическая ситуация будет решена принципиально различным образом.
В результате поведение лица, уклоняющегося от наказания в виде ограничения свободы, назначенного судом в качестве дополнительного, может быть оценено как с позиции положений ст. ст. 69, 70 УК РФ, так и без их учета. Таким образом, в одном случае будут применяться правила сложения, а в другом – назначаться новое наказание (как правило, в виде лишения свободы) как за вновь совершенное преступление без учета оставшейся не от- бытой части наказания. При этом в третьем случае, когда уклонение происходит от ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида, может произойти только замена (а не назначение) одного наказания на другое. Безусловно, назвать демонстрируемый законодателем подход справедливым вряд ли возможно. Одни и те же средства воздействия, а ограничение свободы, но в разных статусах, это все же одно и то же средство воздействия на осужденного, должны влечь за собой и одинаковые последствия для таких лиц. Различия допустимы лишь в их объеме (в зависимости от личности виновного, обстоятельств совершения преступления и постпреступного поведения и т.д.), но никак не в правовой природе применяемых средств.
В то же время судам не остается ничего другого кроме как действовать в рамках тех возможностей, которые ему даны на законодательном уровне, что находит соответствующее подтверждение и в конкретных решениях. Так, Сыровским городским судом Нижегородской области в отношении гр-на М., уклонявшегося от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного в рамках санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ, было принято решение о назначении ему нового наказания в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314
УК РФ без учета положений ст. 70 УК РФ [4]. Новое наказание было назначено в тех пределах, которые установлены законодателем в ч. 1 ст. 314 УК РФ как за вновь совершенное преступление. С учетом приведенных выше положений уголовного закона, направленных на регламентацию пределов ответственности лиц, совершивших деяния подобного рода, принятое судом решение вполне законно и не может вызывать каких-либо вопросов.
Не вызывает вопросов с позиции требований принципа законности и решение другого суда, поступившего в подобной ситуации прямо противоположным образом. Звениговским районным судом Республики Марий Эл в отношении гр-на Е., также уклонявшегося от исполнения наказания в виде ограничения свободы ранее назначенного в качестве дополнительного, был вынесен обвинительный приговор по признакам ч. 1 ст. 314 УК РФ. Новое наказание в отличие от предыдущего случая было назначено по совокупности приговоров. В результате к наказанию, назначенному по последнему приговору суда (6 мес. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ), а также 1 год и 6 месяцев за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в соответствии с правилами ч. 2 ст. 69 УК РФ назначено наказание сроком 1 год девять месяцев с ограничением свободы на один год), частично было присоединено наказание в виде ограничения свободы, назначенное по предыдущему приговору суда в качестве дополнительного [5].
В обеих ситуациях суды приняли решения полностью соответствующие требованиям законности, и вопросов здесь гораздо больше к самой законности, чем к решениям. Если еще учесть наличие у суда возможности применять правила о замене этого же наказания, но в статусе основного, то к идее законности применительно к данному случаю возникают все те же вопросы, о которых речь шла ранее. Представляется, что ответов на них с учетом действующего законодательства быть не может, а различный характер решений, принимаемых практически в идентичных ситуациях, санкционирован на самом высоком уровне, т. е. в самом УК РФ. Таким образом, складывается довольно парадоксальная ситуация, когда принимаемые судами решения при безусловном их соответствии началу законности явно не отвечают требованиям справедливости и целесообразности.
Решение проблемы, как представляется, лежит в плоскости деятельности законодателя, способного вмешаться в существующее положение вещей и уравновесить идеи законности и справедливости в ходе применения ст. 314 УК РФ. Для этого требуется исключение на официальном уровне самой возможности тройного отношения к уклонению от отбывания ограничения свободы как к виду наказания и двойного отношения к нему, когда оно применяется в статусе дополнительного. В целях реализации такого подхода необходима трансформация ст. 314 УК РФ, влекущая за собой исключение из ее содержания ч. 1 и, соответственно, возврат к предыдущей редакции нормы. Криминализации таким образом подлежит лишь уклонение от лишения свободы как наиболее строгий вид наказания, замена которого на другой вид по сути невозможна. Собственно, исключительность в этом плане лишения свободы на определенный срок и послужила основанием для установления самостоятельной уголовной ответственности за уклонение от данного наказания. Все остальные меры карательного воздействия вполне могут быть заменены как раз лишением свободы (либо иным, более строгим по отношению к тому виду наказания, от которого происходит уклонение), что, собственно, и демонстрируется законодателем в соответствующих статьях Уголовного кодекса.
В свою очередь исключение самостоятельной ответственности за уклонение от ограничения свободы (как дополнительного наказания) автоматически его уравновесит с другими средствами воздействия, уклонение от которых традиционно влечет за собой замену одного вида на другой – более строгий вид наказания. Декриминализация ч. 1 ст. 314 УК РФ должна повлечь за собой и трансформацию ч. 5 ст. 53 УК РФ в части правовой регламентации ответственности за уклонение от ограничения свободы, назначенного как в качестве основного, так и дополнительного наказания. Полагаю, равнозначный подход к данному виду наказания вне зависимости от его статуса, а также формальное закрепление принципиально единой позиции относительно ответственности за уклонение от отбывания того или иного наказания необходимы для обеспечения идеи справедливости, соблюдение которой требуется в ходе применения уголовного закона. При этом различия в деталях реализации ответственности за уклонение, безусловно, должны сохраняться. Вопрос необходимо ставить о формировании единого подхода, которому должна соответствовать реакция правоприменителя при решении вопроса о пределах ответственности за такое общественно опасное деяние, как уклонение от исполнения ранее назначенного наказания.
Список литературы Уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания (ст. 314 УК РФ): проблемы правовой регламентации и практики применения
- Бавсун М.В., Карпов К.Н. Контроль за поведением лиц, осужденных условно или освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характера//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 3. С. 23.
- Примак А.А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы. Красноярск, 2006. С. 208-209.
- Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2001. С. 33.
- Архив Сыровского городского суда Нижегородской области за 2015 г. Уголовное дело № 1-106/15.
- Архив Звениговского районного суда Республики Марий Эл за 2016 г. Уголовное дело № 1-20/2016.