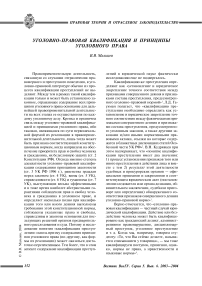Уголовно-правовая квалификация и принципы уголовного права
Автор: Мальцев В.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Правовая теория и вопросы совершенствования отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 6, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972565
IDR: 14972565
Текст статьи Уголовно-правовая квалификация и принципы уголовного права
Правоприменительную деятельность, связанную со случаями отграничения правомерного и преступного поведения, в уголовно-правовой литературе обычно из процесса квалификации преступлений не выделяют. Между тем в рамках такой квалификации только и может быть установлено законное, отражающее содержание всех принципов уголовного права основание для дальнейшей правоприменительной деятельности на всех этапах ее осуществления по каждому уголовному делу. Крепка и органична связь между уголовно-правовой квалификацией и принципами уголовного права, ибо таковая, являющаяся по сути первоначальной формой их реализации в правоприменительной деятельности, лишь тогда может быть признана соответствующей конституционным нормам, когда направлена на обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина, их безусловную защиту (ст. 2 Конституции РФ). Отсюда именно степень адекватности уголовно-правовой квалификации содержанию принципов законности (ст. 3 УК РФ 1996 г.), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК), вины (ст. 5 УК), справедливости (ст. 6 УК) и гуманизма (ст. 7 УК), выступающих весьма эффективными и в тоже время наиболее абстрактными гарантиями соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном праве, и определяет насколько полно при квалификации того или иного деяния выполнены требования этой конституционной нормы, соблюдены указанные права и свободы, справедливы и законны основания для последующих решений органов предварительного расследования и суда. Потому и исследование понятия «квалификация преступления» сквозь призму содержания принципов уголовного права (по-другому, как формы их реализации) может оказаться достаточно перспективным. Тем более, что в этом аспекте содержание квалификации преступ лений в юридической науке фактически исследованию еще не подвергалось.
Квалификацию же преступления определяют как «установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой»1. Л.Д. Га-ухман полагает, что «квалификацию преступления необходимо определить как установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом, а также другими законами и/или иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ»2. В.Н. Кудрявцев при этом подчеркивает, что «понятие квалификации преступления имеет два значения: 1) процесс установления признаков того или иного преступления в действиях лица и вместе с тем 2) результат этой деятельности судебных и прокурорских органов — официальное признание и закрепление в соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-правовой норме»3.
Верно отмечается, что «уголовно-правовая квалификация — частный случай юридической квалификации. Действие или бездействие человека может быть квалифицировано как гражданский деликт, административное правонарушение, дисциплинарный проступок, уголовное преступление и т. д. Когда мы, например, говорим студенту: «То, что Вы сейчас делаете, называется списыванием у товарища», — мы тоже квалифицируем поступок, применяя, однако, нормы не права, а нравственности и языковые нормы»4.
Процесс квалификации преступления не всегда заканчивается обнаружением соответствия признаков совершенного деяния признакам состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой (уголовным законом). Довольно часто его результатом может быть установление соответствия признаков деяния нормам Общей части УК (ст. 28, 37—42) либо нормам других отраслей права (например, ст. 7.27, 20.1. КоАП РФ) или установление иного несоответствия признакам состава преступления (допустим, недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 20 УК), либо невменяемость (ст. 21 УК)). В уголовном процессе подобного рода результаты квалификации охватываются понятием «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). С позиций же уголовного закона (точнее, его теории), с содержательной стороны, как это ни странно, такие результаты вообще своего названия не получили. Между тем последние имеют важное уголовно-правовое значение, по каждому из них выносится соответствующий юридический акт.
Выражение «квалификация преступления» не только не охватывает упомянутые случаи вынесения правоприменительных актов (поскольку правомерное и непреступное поведение как раз и характеризуются своим несоответствием признакам состава преступления), но и несет в себе заметное противоречие. Если квалифицировать 5 означает «определять, оценивать, характеризовать или относить», то их предметом не может быть преступление, ибо в указанном выражении в качестве преступления оно уже определено, оценено, охарактеризовано и отнесено к группе преступлений. Потому-то, отчасти, наверное, деяние человека и квалифицируется как «уголовное преступление» (в словосочетании «квалификация преступления» последнее слово в соответствии со смыслом первого подлежит определению, оценке и пр.).
В юридической литературе как синонимичное понятию «квалификация преступления» иногда используется выражение «уголовно-правовая оценка (квалификация) соответствующих преступных деяний»6. Выражение «уголовно-правовая оценка» в общем приемлемо для использования при обозначении этой фазы правоприменительной деятельности. Однако не следует забывать, что его содержание гораздо шире содержания понятия квалификации преступления 7.
Полагают также, что «правоприменительная квалификация есть познавательнооценочный процесс исследования фактических обстоятельств юридического дела и подлежащей применению нормы права, официально выраженный и закрепленный в акте применения права»8. Причем «познавательно-оценочный процесс» свойственен не только выявлению и закреплению фактических обстоятельств уголовного дела, но и установлению соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления. «Квалификация как познавательно-оценочный процесс опосредует все стадии правоприменения»9.
Правильная квалификация деяния в качестве преступного создает юридическую основу для верного решения вопросов об освобождении лица от уголовной ответственности или назначении ему наказания, его освобождения от наказания. Одновременно такая квалификация выступает и основанием для реализации применительно к конкретному деянию, виновному лицу и пострадавшему всего потенциала принципов, имеющегося в нормах, как непосредственно использованных при квалификации, так и уголовного законодательства в целом.
Вместе с тем в сложных случаях отграничения преступных форм поведения от непреступных, в наиболее трудных ситуациях установления соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления выявление этого соответствия (или несоответствия) как раз и происходит через посредство принципов уголовного права. Принципы здесь предстают в качестве метода обнаружения указанного соответствия, их содержание непосредственно реализуется в квалификации преступления, в познавательно-оценочном и юридически урегулированном процессе отграничения преступного и непреступного поведения.
Опосредуя все остальные формы реализации уголовного права в правоприменительной деятельности и непосредственно участвуя в процессе квалификации при отграничении преступного поведения от непреступного, принципы уголовного права таким путем и образуют присущую им первоначальную форму своей реализации в указанной деятельности.
Наиболее органично эту форму реализации принципов уголовного права отражает термин «уголовно-правовая квалификация». В большинстве случаев именно такой квалификации подвергаются общественно опасные деяния, вследствие чего и признаваемые преступными. К уголовно-правовой относится квалификация в сфере объективного причинения вреда, ибо и тут устанавливается соответствие между внешними (объективными) признаками деяния и признаками норм Особенной части УК, его субъективными особенностями и признаками норм Общей части УК (ст. 20, 21, 28 УК), а ее юридическим последствием может быть применение мер уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 90, п. «а» ч. 1 ст. 97 УК).
Пожалуй, лишь квалификацию, основанную на нормах об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, по ее результатам нельзя считать полностью уголовно-правовой. Поскольку в рамках уголовноправовой квалификации устанавливается соответствие деяния норме Общей части УК (ст. 37—42), в силу которой оно признается желательным и общественно полезным, а значит, и безусловно правомерным, постольку деяние лишь оценивается с позиций уголовного права, не порождая при этом никаких юридических (уголовно-правовых) последствий. Иными словами, проведенная как уголовно-правовая, такая квалификация имеет своим результатом установление факта правомерного поведения, констатацию отсутствия уголовно-правового отношения ответственности, а отсюда и наличия содержательной связи между совершенным деянием и уголовным правом. Однако, если такой связи нет, то в полной мере не может быть и уголовно-правовой квалификации (то есть, коротко говоря, определения уголовно-правового качества поступка человека), ибо нельзя установить (определить) в деянии того, чего в нем не содержится.
Непосредственная реализация принципов уголовного права при квалификации деяния в сфере отграничения преступного поведения от непреступного в основном связана с применением нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 14 УК: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности, не представляющее общественной опасности».
В период подготовки реформы уголовного законодательства было высказано мнение о ненужности нормы о малозначительности деяния. Так, Ю.И. Ляпунов писал: «Что касается ч. 2 ст. 7 УК РСФСР, то эта норма вообще не имеет никакого отношения к понятию преступления, которое формулируется в ч. 1 данной статьи, ибо любые исключения не привносят ни одного позитивного качества (признака, черты) в определяемое законом явление. Если и есть необходимость ее сохранения, что весьма проблематично, то она должна входить в систему норм, регламентирующих институт обстоятельств, исключающих общественную опасность и, кстати, противоправность деяния»10. А.И. Марцев полагал, что «законодатель может обойтись без такого понятия, поскольку идея малозначительности может быть выражена в тексте без употребления данного термина»11.
Определение малозначительности деяния есть не просто констатация возможности исключения из правил, оно органически дополняет понятие преступления определением деяний, которые, несмотря на их кажущуюся уголовную противоправность, преступлениями не являются. Норма, предусмотренная ч. 2 ст. 14 УК, закрепляет приоритет социального над формальным, распространяет свои требования не только на деятельность органов, применяющих нормы уголовного закона, но и, что представляется весьма важным, на правотворчество законодателя.
Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы наличие состава преступления в признаках совершенного деяния всегда предопределяло и наличие адекватной уголовному праву степени его общественной опасности. Однако даже совершенное законодательство, идеально отражающее социальные условия самого преуспевающего общества, вряд ли способно в жестких рамках норм Особенной части УК передать все многообразие общественно опасных проявлений, наметить абсолютно точную грань между всеми совершаемыми преступлениями и всеми деяниями, являющимися таковыми лишь по форме.
К примеру, на правоприменительном уровне, по-видимому, всегда будет существовать проблема признания деяния достаточно опасным и, следовательно, преступным при неоконченной преступной де- ятельности субъекта и незначительной выраженности объективной стороны в его деянии или при завладении чужим имуществом на малую сумму и т. д. Поэтому норма, предусмотренная ч. 2 ст. 14 УК, необходима и для законодателя, фактом ее принятия обязавшегося следовать изложенным в ней требованиям при создании конкретных составов преступлений, и для органов судебной юстиции, которым ею запрещается даже и в редких ситуациях признавать преступными малозначительные деяния. Поскольку она уточняет понятие преступления, ее размещение в статье с одноименным названием имеет под собой основание, чего нельзя сказать о предложении включить данную норму в систему норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Ведь в деяниях, подпадающих под действие ч. 2 ст. 14 УК, необходимой для уголовного права степени общественной опасности нет изначально, вне зависимости от наличия или отсутствия какого-либо из таких обстоятельств.
Наверное, идею малозначительности можно выразить и без употребления данного термина. Вопрос однако в другом: для чего это нужно? Экономии технико-юридических средств по причине ее небольшого лексического объема нет никакой. Вместе с тем исчезнет один из хорошо апробированных гуманистических ориентиров уголовного права, да и кто возьмет на себя смелость решать, что именно данная, а не другая идея двигала в том или ином случае пером законодателя, если он сам не заявит об этом открыто, без утайки?
К сожалению, и нынешнее уголовное законодательство далеко от совершенства. В нем в полной мере отразился «сложный процесс развития современной российской действительности — процесс, который, как и всякое развитие, не может быть бесконфликтным. Тем более это актуально в период коренной ломки старых общественных отношений, смены власти, форм собственности, идеологии, образа жизни»12.
В таких условиях значение нормы о малозначительности деяния, позволяющей под углом приоритета прав личности разрешать многочисленные юридические коллизии 13, возникающие при применении уголовноправовых норм, только возрастает. Особенно же велика ее роль при отграничении преступного и непреступного поведения и как гаранта соблюдения прав человека и гражданина в правоприменительной деятельности. При этом очень важно, что наличие упомянутой нормы создает законные основания для разрешения таких коллизий, отводит от правоприменителей упреки в судебно-следственной декриминализации совершенных в действительности и якобы преступных деяний. К примеру, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ с учетом положений ч. 2 ст. 14 УК отменила приговор Ноябрьского городского суда, по которому Е. был признан виновным в незаконном приобретении и хранении охотничьего ружья и патронов к нему и осужден по ч. 1 ст. 222 УК. При этом при прекращении уголовного дела ею было указано, что действия Е. в силу малозначительности не представляли общественной опасности, поскольку, как установлено по делу, Е. не имел цели приобретения ружья и патронов для себя, а пытался предотвратить самоубийство В., который получил тяжелую травму позвоночника и высказывал мысли о самоубийстве. В связи с чем жена В. попросила Е. временно хранить ружье у него. Действия Е. не представляли опасности для общества и не создавали угрозы причинения вреда личности, обществу или государству 14.
Таким образом, уже само по себе использование нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 14 УК, есть проявление принципа законности в сложной с многими коллизиями сфере уголовно-правового применения. Ее применение соединено и с реализацией содержательных принципов уголовного права. Прежде всего в этом плане следует указать на принцип равенства перед законом и судом, ибо именно он предполагает определение единого, равного, адекватного социальным реалиям масштаба криминализации и пенализации в уголовном законодательстве и применении его норм.
Поскольку квалификация преступления — это установление и закрепление точного соответствия признаков совершенного деяния признакам состава преступления, при ее проведении в этой сфере правоприменения, как наиболее органичные последней и определяемому явлению, как конкретное выражение принципов равенства и законности, в первую очередь реализуются принципы категории «преступление»: положения об адекватности норм о преступлениях характеру общественной опасностире- ально существующих посягательств, о применении этих норм в соответствии с такими реалиями; о достаточном и справедливом основании противоправности преступления.
Реализация принципов уголовного права в правоприменительной деятельности обусловливается уголовно-правовой квалификацией совершаемых деяний. Если при такой квалификации на основе проведенного «познавательно-оценочного процесса» (где его критерием выступают принципы уголовного права) правоприменитель устанавливает несоответствие фактических признаков совершенного деяния признакам состава преступления, предусмотренного уголовным законом, или лишь их формальное соответствие, то делается вывод о правомерности и общественной полезности совершения деяния (ст. 37—42 УК) или об его объективной вредности (ст. 20, 21, 28 УК), либо о непреступном, но с позиций других отраслей законодательства обычно противоправном его характере (ч. 2 ст. 14 УК). Поскольку каждый из этих выводов основан на нормах уголовного закона и производится в полном соответствии с содержанием принципов справедливости, равенства, гуманизма, вины и принципов категории «преступление», постольку при отграничении непреступного и преступного поведения через отрицание наличия последнего указанные принципы полностью и непосредственно реализуются уже на этой стадии правоприменительной деятельности.
Фактическим основанием их реализации в этой форме правоприменения является неустановление уголовно-правового отношения ответственности между государством и предполагавшимся субъектом ответственности, а юридическим — постановление об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Иначе говоря, реализация упомянутых принципов здесь основывается и на применении уголовно-правовой нормы, которое действительно «всегда связано лишь с окончательным решением (положительным или отрицательным) вопроса об уголовной ответственности или наказания лица»15. Именно окончательное решение вопроса об отсутствии основания для возникновения отношения ответственности неопровержимо свидетельствует о непосредственной и полной реализации указанных принципов.
Между тем понятно, что уголовно-правовая квалификация при установлении в совершенном деянии состава преступления лишь предваряет, выступает основанием для применения уголовно-правовой нормы, только опосредует все остальные стадии реализации уголовного права в правоприменительной деятельности. Однако уже давно замечено, что при неправильной квалификации преступления происходит нарушение законности, страдают интересы правосудия, у граждан может сложиться превратное представление о справедливости суда и вообще о деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью в нашей стране 16.
Более того, нельзя не признать весьма перспективным исследование в качестве самостоятельной группы принципов квалификации уголовно-правовых деяний, исходя из чего полагают, что «квалификация уголовно-правовых деяний основывается на закрепленных в УК принципах законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма, а также на производных от них специальных принципах субъективного вменения, недопустимости двойного вменения, полноты, точности, учета общественной опасности квалифицируемого деяния и наказания, установленного за его совершение, толкования всех сомнений в пользу лица, совершившего общественно опасное деяние, приоритета норм, смягчающих ответственность виновного»17.
Хотя можно и не согласиться с некоторыми из названий этих специальных принципов, уже сейчас достаточно очевидно, что верная квалификация общественно опасного деяния в качестве преступного невозможна без соблюдения всех упомянутых принципов. Потому все они и реализуются в правильной уголовно-правовой квалификации.
Список литературы Уголовно-правовая квалификация и принципы уголовного права
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М. 1999. С. 5.
- Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 21.
- Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 5.
- Наумов А. Уголовный кодекс РФ: пять лет спустя//Российская юстиция. 2002. № 6. С. 46.
- Вопленко Н.Н. Правоприменительная квалификация и юридическая справедливость//Вест. ВолГУ. Сер. 5, Социология. Право. Политика Вып. 3. 2000. С. 48.
- Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. С. 64.
- Марцев А.И. Вопросы совершенствования норм о преступлении//Советское государство и право. 1988. № 11. С. 86.
- Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения//Правоведение. 2000. № 5. С. 225.
- Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2001. № 9. С. 15.
- Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. Волгоград, 1973. С. 69.
- Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 24.
- Сабитов Р.А. Принципы квалификации уголовно-правовых деяний//Вест. Челяб. ун-та. Сер. 9, Право. № 1. 2001. С. 57.