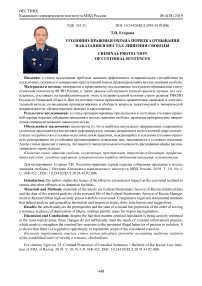Уголовно-правовая охрана порядка отбывания наказания в местах лишения свободы
Автор: Егорова Татьяна Игоревна
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология
Статья в выпуске: 4 (38), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье исследована проблема оказания эффективного исправительного воздействия на осужденных, склонных к совершению преступлений и иных правонарушений в местах лишения свободы. Материалы и методы: материалом к проведенному исследованию послужили официальные статистические показатели ФСИН России, а также данные собственного контент-анализа личных дел осужденных, состоящих на профилактическом учете в исправительной колонии строго режима УФСИН России по Рязанской области. При подготовке статьи применялись сравнительно-правовой и документальный методы, позволившие проанализировать и обобщить вопросы теоретической и эмпирической направленности, сформулировать выводы и предложения. Результаты исследования: в статье проанализированы предпосылки и состояние уголовно-правовой охраны порядка отбывания наказания в местах лишения свободы, намечены приоритетные направления совершенствования законодательства. Обсуждение и заключения: несмотря на то, что в наиболее актуальных направлениях современное уголовное законодательство активно реформируется, данные изменения в недостаточной мере соответствуют потребностям уголовно-исполнительной практики, нуждающейся в усилении уголовно-правового реагирования на устойчивое противоправное поведение лиц, находящихся в условиях изоляции. Автор статьи приходит к выводу, что имеется законодательная возможность расширения сферы рассматриваемого принуждения.
Лишение свободы, осужденные, преступления, тюремная субкультура, профилактический учет, злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, неповиновение
Короткий адрес: https://sciup.org/142223030
IDR: 142223030 | УДК: 343.35 | DOI: 10.24420/KUI.2019.44.92.006
Текст научной статьи Уголовно-правовая охрана порядка отбывания наказания в местах лишения свободы
Места лишения свободы традиционно являются учреждениями, в которых отбывают наказание осужденные за совершение наиболее общественно опасных посягательств. Состояние и направления изменений социально-криминологических характеристик тюремного населения вызывают беспокойство в связи с увеличением доли лиц, имеющих неоднократный опыт отбывания наказания в местах лишения свободы (около 36 % отбывают лишение свободы три и более раза), осужденных за совершение насильственных преступлений (около 30 % отбывают наказание за совершение убийств, причинение тяжкого вреда здоровью) и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (около 28 %). Вместе с тем стабильно высоким остается число осужденных к краткосрочному лишению свободы на срок до трех лет (около 24 %) и длительным срокам лишения свободы свыше десяти лет (около 32 %), тогда как основную часть осужденных составляют лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет (около 57 %)1.
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 2808-р2, наиболее значимыми угрозами безопасности в местах лишения свободы являются, в частности, противоправные действия, а также негативное влияние лидеров и членов группировок криминально ориентированных осужденных и злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания.
Официальные статистические данные отражают устойчивую тенденцию к сохранению числа зарегистрированных преступлений в местах лишения свободы. На фоне сокращения тюремного населения за последние десять лет в 1,5 раза в 2008 и 2018 годах в исправительных учреждениях совершено примерно равное количество преступлений (964 и 913 соответственно).
С учетом высокой латентности преступлений в сплоченных социальных общностях косвенными признаками подготавливаемых и совершенных преступлений могут быть некоторые результаты режимных мероприятий. Так, например, в 2018 г.
в исправительных учреждениях ФСИН России для взрослых изъято 5865 единиц колюще-режущих предметов3.
Учитывая прошлый преступный опыт осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, можно обоснованно предположить, что правонарушения, совершенные в период отбывания наказания, обладают повышенной степенью общественной опасности уже в силу своего рецидивного характера. Кроме того, подобные деяния неизбежно нарушают нормальную деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы, ставя под угрозу безопасность неопределенного круга лиц, способствуя частичной или полной дезорганизации процесса исполнения наказания в виде лишения свободы.
Достаточно отметить, что в 2018 г. около 15 % всего тюремного населения (78 631 осужденных) состояло на профилактических учетах в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с приказом Минюста России от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-мы»4. Из них: 8 596 осужденных, склонных потреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков, 7 177 – склонных к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, 5 168 – склонных к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, 3 189 – организующих или активно участвующих в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды, 2 405 – изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию 1 399 – организующих и провоцирующих групповое противодействие требованиям администрации, 1 299 – осужденных-лидеров и активных участников группировок отрицательной направленности, а также лиц, оказывающих негативное влияние на других осужденных, 855 – отбывающих наказание за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки и т.д.5 Каждое второе преступление, зарегистрированное в местах лишения свободы, совершается лицами, состоящими на профилактических учетах.
Изложенное свидетельствует о достаточно высоком уровне напряженности обстановки среди тюремного населения и, следовательно, необходимости повышения эффективности предупреждения преступлений, выработки соответствующих научно обоснованных рекомендаций.
Обзор литературы
Современное уголовное законодательство в содержании своих предписаний практически не выделяет признаки преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Относительно малочисленная группа подобных норм ограничивается положениями п. «а» ч. 2 ст. 2281, 313, 314 и 321 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). В остальных случаях действуют общие правила квалификации преступлений различных видов и категорий.
В связи с этим отдельные авторы предлагают ввести соответствующие квалифицирующие признаки в статьи Особенной части УК РФ. Например, профессор Е.А. Антонян обосновывает необходимость дополнения составов преступлений против личности, характерных для мест лишения свободы (убийство, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью), признаками специального субъекта совершения преступления: совершение деяния «лицом, отбывающим наказание в виде лишение свободы», а составов побега, уклонения от отбывания лишения свободы, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества дополнительным признаком специального субъекта: совершение преступлений «лицом, имеющим судимость за них» [1, с. 16] (то есть совершение тождественного рецидива). Профессор М.Ф. Костюк также придерживается мнения о необходимости дополнения квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 112 УК РФ, предусматривающими ответственность за совершение деяния «осужденным во время отбывания наказания в виде лишения свободы в целях терроризирования осужденных», а ч. 2 ст. 132, ст. 133 и ч. 2 ст. 213 УК РФ – совершение деяния «осужденным во время отбывания наказания в виде лишения свободы» [2, с. 15] .
Однако, как представляется, сам факт наличия достаточных оснований полагать, что лицо имеет устойчивую криминогенную направленность при отбывании наказания, определяет неэффективность назначенной судом меры уголовно-правового воздействия и требует усиления принуждения.
Результаты исследования
Зачастую преступления в местах лишения свободы, особенно дезорганизацию деятельно- сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), совершают лица, придерживающиеся тюремной субкультуры, которые при отбывании наказания характеризуются в основном нейтрально или отрицательно [4, с. 287]. Подобное отношение к соблюдению криминальных традиций и обычаев проявляется в поведении осужденных: путем нарушений распорядка дня и формы одежды при отбывании наказания, отказа от работы и участия в культурно-массовых мероприятиях, широкого использования в своей речи жаргонных слов и нанесения на свое тело перманентных подкожных рисунков, отражающих «тюремную романтику».
В связи с этим вполне обоснованно рассматривать исправительные учреждения как наиболее уязвимые объекты с точки зрения совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 и ст. 2101 УК РФ. Поэтому достаточно актуальными представляются нововведения в УК РФ, внесенные Федеральным законом РФ от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ1, которые отражают тенденции расширения возможностей привлечения к уголовной ответственности за участие в преступных собраниях и занятие высшего положения в преступной иерархии. Однако, согласно общеизвестной криминальной традиции, за «воров в законе» все противоправные поступки «совершают нижестоящие представители уголовной среды» [3, с. 37]. Очевидно, что эти лица также имеют опыт участия в преступных собраниях и занимают определенное положение в преступной иерархии. Организация ими в местах лишения свободы бизнеса, связанного с картежными играми и незаконным оборотом наркотиков, представляет собой способ пополнения криминального «общака», вовлечения в свою преступную среду новых участников, особенно из числа лиц молодежного возраста.
Так, приговором Металлургического районного суда г. Челябинска от 10 сентября 2018 г. по делу № 1-374/2018 виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 321 УК РФ, признан С.А.Ю., который судим на момент вынесения приговора тринадцать раз, по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Челябинской области характеризуется отрицательно. Судом установлено, что преступление было совершено при оказании сопротивления законным действиям сотрудников исправительного учреждения во время проведения обысковых мероприятий и изъятия колоды игральных карт, спрятанных в жилом секторе отряда ухищренным способом.
Результаты анализа нами личных дел осужденных, находящихся на профилактическом учете как лиц, организующих или активно участвующих в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды, позволяют охарактеризовать их как неоднократно судимых и склонных к совершению преступлений корыстно-насильственной направленности, допускающих нарушения порядка отбывания наказания, которые выражаются в поддержании латентного характера криминальных связей (ограничение или закрытие камер видеонаблюдения, использование незаконных средств межкамерного общения, отказ от дежурства по камере или общежитию, участия в работах по благоустройству и др.).
Из 18 938 осужденных в России, являющихся в 2018 г. злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 17 468 находятся в запираемых помещениях для содержания осужденных в строгих условиях отбывания наказания, водворенных в штрафные изоляторы, переведенных в единые помещения камерного типа, помещения камерного типа, одиночную камеру колонии особого режима.
Несмотря на возможность установления при указанных в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1 обстоятельствах административного надзора за злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания после отбытия наказания, как представляется, освобождение их из мест лишения свободы при неоднократном совершении действий, выражающих приверженность криминальной субкультуре, является нецелесообразным и опасным для общества.
Так, Балашовским районным судом Саратовской области 12 февраля 2019 г. по делу № 2А-225/2019 вынесено решение об установлении административного надзора сроком на три года за Н.А.Г., освобождающимся из мест лишения свободы 15 июня 2019 г. В характеристике, представленной в суд и не оспариваемой осужденным, указано, что он на мероприятия воспитательного и профилактического характера реагирует отрицательно, поддерживает отношения только с осужденными отрицательной направленности, от прохождения психодиагностических и психокоррекционных мероприятий отказывается, признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, так как оказывал отрицательное влияние на других осужденных. Постановлением суда от 18
апреля 2018 г. переведен в тюрьму. По возвращении в исправительную колонию отклонил предложение трудоустроиться, выразив негативное отношение к труду. Склонен к действиям, повышающим криминальный авторитет среди осужденных, принимая активное участие в демонстративно-шантажных акциях. Придерживается и пропагандирует так называемые «воровские традиции». Враждебно настроен к осужденным, вставшим на путь исправления, имеет 245 дисциплинарных взысканий, поощрений нет.
С учетом данной характеристики спорным представляется наличие у подобного осужденного объективной перспективы и желания вести после освобождения правопослушный образ жизни.
Обсуждение и заключения
Очевидно, что устойчивая противоправная направленность осужденных, отбывающих лишение свободы, выражается в первую очередь в игнорировании требований закона.
В связи с этим обоснованным видится установление в качестве запрещенных уголовным законом посягательств некоторых деяний, которые, по общему правилу, представляют собой административные или дисциплинарные деликты. Речь идет о неповиновениях законному распоряжению представителей власти, а именно – администрации исправительных учреждений. Неповиновения в данном случае могут выражаться в злостном игнорировании требования прекратить нарушение режима при незаконных организации межкамерной связи, передвижении по территории, нахождении в помещении или ином правонарушающем поведении. Важно, что все указанные действия посягают на безопасность других осужденных, которые распределяются в местах изоляции с учетом требований раздельного содержания.
Указанное законодательное решение обеспечит охрану порядка исполнения наказания в виде лишения свободы дополнительными уголовно-правовыми гарантиями, а также предупредит распространение в исправительных учреждениях и в обществе в целом проявлений криминальной субкультуры и связанных с этим угроз для безопасности личности, общества и государства.
Кроме того, представляется уместным, с учетом введения в УК РФ Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 66-ФЗ статьи 3141 УК РФ, осуществлять уголовно-правовое реагирование на факты совершения административных правонарушений не только поднадзорными лицами, освобожденными по отбытии наказания, но и осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы.
Таким образом, учитывая редакции ст. 3141, 321 УК РФ, ч. 1 ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уголовно-правовой запрет предлагаем сформулировать следующим образом:
«Статья 3211 Неповиновение сотруднику места содержания под стражей или места лишения свободы
Неоднократное неповиновение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного к лишению свободы сотрудникам места лишения свободы или места содержания под стражей, - наказывается….
Примечание: Неповиновением сотруднику места лишения свободы, совершенным неоднократно, признается неповиновение подозреваемым, обвиняемым или осужденным сотруднику места заключения под стражу или места лишения свободы, если это лицо ранее привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания, предусмотренного ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, более двух раз в течение полутора лет».
Список литературы Уголовно-правовая охрана порядка отбывания наказания в местах лишения свободы
- Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М.: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина, 2014. 41 с.
- Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М.: Акад. управления МВД России, 2000. 46 с.
- Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4 (26). С. 36 - 39.
- Акчурин А.В. Личность типичного осужденного, дезорганизующего деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Омской юридической академии. 2018. Т. 15. № 3. С. 285 - 291.