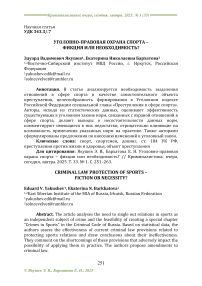Уголовно-правовая охрана спорта — фикция или необходимость?
Автор: Якушев Э.В., Бархатова Е.Н.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (33), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется необходимость выделения отношений в сфере спорта в качестве самостоятельного объекта преступления, целесообразность формирования в Уголовном кодексе Российской Федерации специальной главы «Преступления в сфере спорта». Авторы, исходя из статистических данных, оценивают эффективность существующих в уголовном законе норм, связанных с охраной отношений в сфере спорта, делают выводы о несостоятельности данных норм, комментируют имеющиеся в них недостатки, отрицательно влияющие на возможность применения указанных норм на практике. Также авторами сформулированы предложения по внесению изменений в уголовный закон.
Спорт, спортсмен, допинг, ст. 184 ук рф, преступления против жизни и здоровья, объект преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/143184403
IDR: 143184403 | УДК: 343.3/.7
Текст научной статьи Уголовно-правовая охрана спорта — фикция или необходимость?
В современной уголовноправовой науке назрел вопрос об охране общественных отношений в сфере спорта. Об этом свидетельствует значительное число исследований, проведенных в течение последних лет, например работы И. А. Крупник, А. А. Фазлиева, Д. А. Безбородова [1; 2; 3]. Разумеется, данная сфера защищена уголовно-правовыми нормами, но лишь в определенной степени. Об этом говорит тот факт, что общественные отношения в сфере спорта ни в одном из составов преступлений, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации1, не названы в качестве основного непосредственного объекта преступления. Так, вопросы причинения вреда жизни и здоровью спортсменов разрешаются в рамках положений закона о преступлениях против жизни и здоровья; вопросы подкупа участников спортивных соревнований – в рамках статей об экономических преступлениях; проблема применения допинговых средств в спорте – в рамках статей о преступлениях против здоровья населения. Вместе с тем преступлениями, ответственность за которые предусмотрена вышеуказанными статьями, вред часто причиняется в первую очередь отношениям в сфере спорта, но отсутствие специальной главы в УК РФ и соответствующего видового объекта не позволяет назвать такие отношения основным непосредственным объектом.
Кроме того, отдельные общественно опасные деяния в сфере спорта не укладываются в существующую систему уголовно-правовых норм и требуют особого подхода к регулированию. Таким деянием является в том числе причинение вреда жизни или здоровью спортсмена при наличии его документального согласия на риск наступления таких последствий. Не всегда ясны разумные границы причинения вреда, степень ответственности лица, причиняющего такой вред, а также уголовноправовая сущность согласия на риск причинения вреда.
Вышеперечисленные и иные вопросы требуют обсуждения и разрешения.
Основная часть
Проводя исследования по вопросам правовой защищенности спортсменов и иных участников спортивных соревнований, а также сферы спорта в целом как области пересечения политических и экономических интересов, мы пришли к выводу о том, что в уголовном праве сфера спорта как таковая оставлена без внимания. Разумеется, уголовное право не обязано охранять абсолютно все общественные отношения, для этого существуют другие отрасли права. В УК РФ предусмотрены составы преступлений, которые могут быть совершены в сфере спорта. Данные составы описаны как в общих, так и в специальных нормах. Анализ структуры УК РФ показывает, что общественные отношения в сфере спорта не являются ни видовым, ни основным непосредственным объектом преступления. Данная ситуация приводит к справедливым вопросам относительно размещения той или иной статьи о преступлении в сфере спорта в том или ином разделе или главе УК РФ.
Об уголовно-правовой охране общественных отношений в сфере спорта как видовом объекте преступления еще в 2009 году в своей диссертации говорил В. В. Сараев. Более того, автор выделил блоки преступлений в сфере спорта: преступления против личности, преступления, связанные с допингом (заметим, что таковые в то время вообще не описывались в УК РФ), спортивное хулиганство, подкуп организаторов и участников спортивных соревнований, незаконное предпринимательство [4, с. 191]. Уже в то время автором были высказаны интересные идеи по «выводу спорта из уголовно-правовой тени» путем дополнения статей соответствующими квалифицирующими признаками, например признаком «при проведении спортивных соревнований» [5, с. 9].
С. В. Мосина указывает на «спортивные отношения» как на дополнительный непосредственный объект преступлений, совершаемых при подготовке и проведении спортивных соревнований [6, с. 11]. В то же время, выделяя группы преступлений названного вида, автор не делает вывода об объединении норм об ответственности за такие преступления в главу или раздел, что, как нам представляется, было бы логичным, учитывая значимость сферы спорта для общества и государства. Так, представляется, что глава под названием
«Преступления в сфере спорта» могла бы быть включена в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», поскольку профессиональный спорт представляет собою явление массовое, в котором задействованы не только спортсмены, но и организаторы соревнований, персонал спортсмена и даже зрители, присутствующие на соревнованиях.
Однако нельзя не признать, что в случае дополнения УК РФ предложенной главой существует риск дублирования отдельных норм (например, все тех же статей о причинении вреда здоровью спортсмена). Но перед нами не стоит задача решения вопроса о необходимости дополнения уголовного закона соответствующей главой. Этот вопрос возник в связи с обсуждением объекта преступления и справедливости формулировки «уголовно-правовая охрана спорта». А нужна ли спорту уголовно-правовая охрана? Вот ключевой вопрос. Исходя из вышеизложенных утверждений, можно дать утвердительный ответ. Спорт – одна из важнейших сфер жизни, один из элементов внешнеполитических отношений государства, компонент экономики. В ряде (если не в большинстве) случаев спорт связан с риском для здоровья спортсмена. Безусловно, все эти обстоятельства говорят о необходимости законодательного и правоприменительного реагирования. С другой стороны, анализ статистических данных показывает, что «спортивные» статьи практически не применяются.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за период с 2017 по 2023 годы к ответственности по «антидопинговым» статьям УК РФ (2301 и 2302) не было привлечено ни одно лицо, при этом также за указан- ный период ни одно лицо не освобождалось по ним от ответственно-сти2. Некоторые уголовные дела не доходили до суда ввиду освобождения лиц от уголовной ответственности по различным основаниям или исключения указанных статей из квалификации. Так, в Архангельской области уголовное дело по ст. 2301 УК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности [цит. по 2, с. 154].
Вместе с тем в течение 2024 года различные источники сообщали о возбуждении уголовных дел и вынесении обвинительных приговоров по указанным статьям. Например, в рамках работы Всероссийского форума «Спорт. Антидопинг. Здоровье. Практика межведомственного взаимодействия», проходившего в г. Тамбове 10–11 июля 2024 года, представителем Главного управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД России было сообщено о семи возбужденных уголовных делах по фактам использования допинга в спорте, по пяти из которых вынесены обвинительные пригово-р ы3.
В период с 2014 по 2023 год по ст. 184 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание противоправного влияния на результат спортивных соревнований и иных зрелищных мероприятий, осуждено только 7 лиц по ч. 3 и 1 лицо по ч. 1
(все в 2022 году )4. Осужденными оказались шесть игроков и главный тренер футбольного клуба «Черноморец», а также исполнительный директор футбольного клуба «Чайка». Исполнительный директор «Чайки» совершил десять преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 УК РФ (осуществлял подкуп судей спортивных соревнований), в том числе подкупил главного тренера и шестерых игроков «Черноморца», которым вменялось в вину преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 184 УК РФ (получили вознаграждение за проведение «договорного» матча). Приговор вынесен Железнодорожным районным судом г. Воронежа. Интересно наказание, назначенное судом исполнительному директору «Чайки», – 1,8 млн руб. При этом общая сумма средств, предлагаемых им судьям спортивных соревнований, составила 1,9 млн руб. Отметим, что максимальный размер санкции по ч. 3 ст. 184 УК РФ составляет пять лет лишения свободы. Данный срок мог быть превышен с учетом назначения наказания по совокупности преступлений, о чем и просила сторона обвинения (основное наказание – шесть лет лишения свободы, и дополнительное – штраф )5.
Отчасти такую ситуацию можно объяснить закрытостью сферы спорта, второстепенным значением преступлений данного вида по сравне- нию с иными, более распространенными и общественно опасными деяниями, сложностью доказывания, заинтересованностью обеих сторон в достижении соответствующего результата (конкретно для ст. 184 УК РФ), несовершенством законодательной конструкции указанных норм.
Именно вопрос о несовершенстве законодательной конструкции нормы и утверждение о закрытости и автономности сферы спорта привело нас к мысли о том, насколько необходимо присутствие «спортивных» норм в УК РФ и необходимо ли вообще. Будут ли усовершенствованные нормы работать лучше? Что вообще значит в подобном контексте фраза «работать лучше», если «спортивные» нормы появились в законе не по причине реальной необходимости, а по политическим соображениям? Насколько готово общество в целом и спортивное сообщество в частности к такому воздействию?
Изучение работ по данной тематике убедило нас в обеспокоенности научной общественности вопросом уголовно-правовой охраны спорта. Ни в одной из изученных работ мы не встретили мнения о возможности самостоятельного регулирования спортивными организациями вопросов об ответственности за причинение вреда отношениям, возникающим в сфере спорта, но касающимся общественно значимых интересов. Мы полностью согласны с утверждением В. В. Сараева о том, что «каждый элемент такой социальной системы, как спорт, обладает относительной автономией от других социальных систем общества, но вместе с тем и тесно взаимодействует с ними, подвергаясь их влиянию и качественно изменя- ясь, в частности и под воздействием негативных факторов»6.
Позиция о необходимости уголовно-правовой охраны спорта может быть обоснована по нескольким направлениям.
Во-первых, отношения в сфере спорта, являясь частью системы общественных отношений, имея важное значение для развития общества, безусловно, должны быть названы возможным объектом преступления. В случае посягательства, например, на установленный порядок проведения спортивного соревнования путем применения к спортсмену допинговых средств лицо, совершившее такое деяние, подвергает опасности в первую очередь данный порядок, а второстепенным последствием является причинение вреда экономическим интересам, общественной нравственности и др. Само по себе нарушение порядка проведения спортивных мероприятий, а также принципов спорта ставит под угрозу целый общественный институт, подрывает веру общества в чистоту спортивного результата, честность и беспристрастность при оценке этого результата, формирует мнение о вседозволенности и беспринципности, приводящее впоследствии к другим правонарушениям.
Необходимость уголовноправовой охраны отношений в сфере спорта не вызывает сомнений. Вместе с тем существуют определенные трудности, связанные с механизмом ее реализации. Должна ли быть в УК РФ отдельная глава «Преступления в сфере спорта», либо нормы по-прежнему останутся разрозненными, но содержащими соответствующие квалифицирующие признаки? На сегодняшний день без изменения структуры уголовного закона в целом сложно ответить на данный вопрос. Безусловно, появление подобной главы выведет на соответствующий уровень защиты обозначенный нами объект посягательства, но такое решение способно создать дополнительную нагрузку на уголовноправовую систему. Возвращаясь к мысли В. В. Сараева об автономии сферы спорта7 и к нашему собственному утверждению об ее относительной закрытости для правоохранительных органов, рискнем предположить, что выделение самостоятельной главы об уголовно-правовой охране данной сферы может стать рациональным решением. Рассмотрим целесообразность такого изменения на конкретных примерах.
Нередки случаи причинения вреда здоровью или жизни спортсмена при проведении спортивных мероприятий. В литературе приводятся результаты исследований, демонстрирующие статистику смертности от бокса. Указывается, что показатели снижаются, пик смертности пришелся на 1920-е годы (233 смерти). Чтобы уменьшить число смертельных случаев, количество раундов было сокращено с 15 до 12 в 1980-х годах. В 2009 году смертность от боксерских поединков достигала 0,13 на 1 000 участников в год [7, с. 129].
Следует отметить, что в УК РФ не проводится отграничение причинения вреда здоровью и жизни спортсмена при проведении спортивных мероприятий от иных случаев причинения такого вреда человеку.
Причинение вреда здоровью или жизни спортсмена при проведении спортивных мероприятий, на которое спортсмен согласен, с точки зрения уголовного права не относится ни к одному обстоятельству, исключающему преступность деяния, или основанию освобождения от уголовной ответственности. В данном случае речь идет об отсутствии противоправности в действиях лица, причиняющего вред, однако отсутствие противоправности должно быть обусловлено юридически. Согласно букве закона, лицо, причиняющее вред жизни или здоровью другого лица, совершает преступление. Например, эвтаназия запрещена даже при наличии согласия или просьбы лица, в отношении которого она применяется. В таком случае, в чем состоит ее отличие вреда, также причиняемого с согласия спортсмена, пусть и в разумных пределах? Справедливо в этом отношении утверждение А. В. Варданяна и Е. В. Безручко об отсутствии в перечне системы обстоятельств, исключающих преступность деяния, нормы, в соответствии с которой возможно было бы не считать преступным причинение вреда здоровью человека или смерти при проведении спортивных состязаний [8, с. 41].
Несмотря на вышеизложенную позицию о том, что преступления против жизни и здоровья спортсмена в рамках спортивных соревнований охраняются общими нормами УК РФ о преступлениях против личности, приведем противоположное мнение, базирующееся на размышлениях А. В. Варданяна и Е. В. Безручко: ука- занные случаи причинения вреда жизни и здоровью не в полной мере охватываются признаками составов преступлений против личности в случаях, касающихся причинения вреда именно в целях достижения определенного спортивного результата. Согласимся, что умышленное причинение вреда жизни или здоровью одного спортсмена другим однозначно подпадает под признаки общего состава (например, предусмотренного ст. ст. 105 или 111 УК РФ). Если же вред причинен для достижения спортивного результата и спортсмен, причиняющий вред неправильно оценил обстановку (состояние противника, собственные силы, используемые приемы и методы и пр.), содеянное в соответствии с современным законом образует состав неосторожного преступления. Однако, учитывая сферу совершения деяния и сознательное решение потерпевшего о согласии на риск причинения вреда, представляется не совсем верным квалифицировать подобный факт по общей норме. Полагаем, в данном случае требуются специальные нормы о причинении вреда жизни и здоровью спортсмена во время спортивных соревнований. Это должны быть две разные нормы: охраняющая жизнь и охраняющая здоровье. Форма вины в данном случае – неосторожность.
Довольно часто к нарушителям общественного порядка на спортивных мероприятиях применяется ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако, несмотря на ранее упомянутое предложение В. В. Сараева установить в данной статье квалифицирующий признак «при проведении спортивных мероприятий», таковой в статье по-прежнему отсутствует. Между тем по итогам сезона 2023/2024 года отмечается, что число правонарушений (в том числе преступлений) на стадионах возросло на 15 % (с 509 в сезоне 2022/2023 года до 588 в сезоне 2023/2024 года)8.
В литературе мы не встретили анализа причины игнорирования законодателем предложения об установлении признака «при проведении спортивных мероприятий» в статье о хулиганстве. Нельзя назвать число случаев «спортивного» хулиганства незначительным. Так, если в среднем ежегодно регистрируется около 1,5 тыс. случаев хулиганства по всем частям ст. 213 УК РФ, то уголовно наказуемое «спортивное» хулиганство в среднем составляет 250 случаев в год (16,7 %)9. В связи с этим отражение в статье о хулиганстве названного квалифицирующего признака представляется целесообразным. Вместе с тем в случае дополнения УК РФ главой о преступлениях в сфере спорта возможно рассмотреть вопрос о включении в нее специальной нормы о хулиганстве при проведении спортивных мероприятий. Такое решение обусловлено объектом посягательства, которым в данном случае выступает в первую очередь сфера спортивных отношений, причем, учитывая массовость спортивных мероприятий и реакцию, которая может быть вызвана тем или иным неуместным действи- ем болельщика, спортсмена или иного лица, место и время совершения деяния должны стать составообразующими признаками (место и время проведения спортивного мероприятия). Эти признаки будут отграничивать преступление от административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях10 («Мелкое хулиганство»).
Норма уголовного закона об ответственности за противоправное влияние на результат спортивного соревнования (ст. 184 УК РФ) могла бы стать эффективной при ее перемещении в предлагаемую главу о преступлениях в сфере спорта с учетом внесения некоторых изменений. В научной среде существует позиция о некорректности установления цели оказания влияния на результат спортивного соревнования в ст. 184 УК РФ. В этом случае, по мнению А. В. Анцыгина, важен не сам результат спортивного соревнования, а цель [9, с. 183]. Действительно, сам факт подкупа, оказавший в итоге влияние на результат спортивного соревнования, но совершенный без указанной цели, а, например, из личной заинтересованности (корыстной, мести и пр.), не может быть расценен как преступление. Это существенным образом препятствует применению данной нормы на практике. Понятна позиция законодателя, желавшего подчеркнуть путем установления цели специфику преступления. Кроме того, вряд ли можно согласиться с вариантом такой конструкции, когда прямо прописаны последствия, например «подкуп, повлекший искажение результата соревнований». В таком случае правоприменителю для привлечения лица к ответственности необходимо «дождаться» результата, вместо того чтобы пресечь преступление на более ранней стадии. При условии дальнейшего существования ст. 184 УК РФ решение виделось бы в сочетании данных признаков: «совершенный с целью оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования или повлекший такой результат».
Кроме того, в ст. 184 УК РФ, на наш взгляд, необоснованно сочетаются спортивные мероприятия и иные зрелищные конкурсы. Учитывая специфику охраняемых отношений (а под таковыми мы имеем в виду отношения в сфере спорта), верным видится разделение данной статьи на две самостоятельные, одна из которых посвящалась бы исключительно спорту, другая – иным мероприятиям, в любом случае в предлагаемой главе о преступлениях в сфере спорта должна быть отражена только первая норма.
«Антидопинговые» статьи, несмотря на их сущность как реакции на требования международного сообщества, объективно должны остаться в законе и быть размещены в главе о преступлениях в сфере спорта все так же ввиду основного непосредственного объекта, которому преступлениями, предусмотренными в данных статьях, причиняется вред. Мы уже писали о том, что указанные нормы требуют корректировки по ряду моментов [10, с. 121].
Наряду с перечисленными статьями главу о преступлениях в сфере спорта должны составлять и другие, например о нарушении конституционных прав спортсмена или права спортсмена на свободу передвижения. Вопрос о новой главе в случае его положительного решения требует детальной проработки, анализа рисков, оценки целесообразности, сопоставления возможного положительного и отрицательного эффектов от появления такой главы в УК РФ. При этом нельзя оставить без внимания вопрос о спорте как объекте уголовно-правовой охраны (его видов, структуры и содержания).
Отсутствие единообразного подхода к термину «спорт» может привести к ошибкам в квалификации. М. А. Волненко в качестве критериев для идентификации спортивных отношений как объекта преступления указывает следующие:
-
- профессиональную основу спорта;
-
- включение вида конкретного спорта в базовый раздел Всероссийского реестра видов спорта;
-
- регулярную тренировочную деятельность;
-
- обязательное участие в официальных спортивных соревнованиях. [11, с. 109]. Действительно, чрезмерно широкое толкование понятия «спорт» с точки зрения уголовного права неверно. В таком случае объектом будут признаваться в том числе отношения в сфере любительского спорта. Это верно с точки зрения законодательства о спорте, но некорректно с позиции уголовного права, поскольку последним охраняются наиболее значимые общественные отношения. В данном случае наиболее значимыми являются отношения, регулируемые специальными нормативными актами и возникающие в связи с осуществлением профессиональной деятельности.
Относительно субъектного состава в предлагаемой главе «Преступления в сфере спорта» необходимо отметить, что он может быть образован как специальными, так и общими субъектами. Например, причинить вред здоровью спортсмена во время спортивных соревнований с большей вероятностью может лишь спортсмен-противник. Принять предмет подкупа при противоправном влиянии на результат спортивного соревнования может спортсмен, тренер, судья, организатор спортивного соревнования и иной специальный субъект, вместе с тем посредником в передаче такого подкупа может являться лицо, обладающее признаками общего субъекта. Нарушителями общественного порядка на спортивных мероприятиях чаще выступают болельщики, хотя нередко такие нарушения допускаются спортсменами. В этом случае спортсмен может быть признан специальным субъектом, если возможно вести речь о повышенной степени общественной опасности хулиганства, совершенного спортсменом, по сравнению с хулиганством, совершенным болельщиком.
«Антидопинговыми» нормами определен круг исключительно специальных субъектов.
Преступления в сфере спорта в основном являются умышленными, за исключением преступлений против жизни и здоровья спортсмена. Другой вопрос в том, что понятие вины в уголовном праве в некоторых случаях расходится с представлениями о вине в спортивном законодательстве (например, те же «антидопинговые» нормы). Всемирный антидопинговый кодекс содержит понятие вины, определяемое через любое невыполнение обязанностей или любое отсутствие бдительности в определенной ситуации (т. е. вина, по смыслу данной нормы, может быть выражена как в форме умысла, так и в форме неосторожности). В свою очередь незначительная вина или халатность представляет собой установление факта, что вина или халатность является незначительной11. Указанное малоинформативное определение не позволяет получить четкого представления о том, какие ситуации законодатель относит к содержащим в себе признаки незначительной вины или халатности, а главное – отличаются ли чем-нибудь друг от друга данные понятия, либо они являются тождественными. Полагаем, утверждение о тождественности может быть исключено ввиду употребления законодателем союза «или». Таким образом подчеркнута альтернативность данных признаков. В ином случае один из терминов употреблялся бы в скобках (по правилам юридической техники).
Следует отметить и тот факт, что халатность по своей сути тоже является разновидностью вины. Исходя из общего смысла положений Всемирного антидопингового кодекса в сравнении с положениями отечественного уголовного закона, следует сделать вывод о том, что законодатель под незначительной виной понимает легкомыслие, а под халатностью – небрежность. В отдельных пе- реводах международных документов используется именно термин «небрежность», а не «халатность». Умышленные действия подпадают под понятие виновных. Следует признать, что в данном отношении спортивное право пошло по пути формирования оценочной концепции вины, некогда не признанному для уголовного права. Об этом свидетельствуют и перечисленные в определении вины, предложенном во Всемирном антидопинговом кодексе, факторы, которые необходимо учитывать при оценке степени вины (опыт спортсмена, уровень бдительности, степень риска).
Изложенное свидетельствует о разночтениях при понимании вины. Однако понятия и термины, используемые в одной отрасли права, не всегда в полной мере применимы в другой отрасли, в связи с чем требуется согласовать их друг с другом.
Выводы и заключение
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам.
Во-первых, имеющийся уголовноправовой ресурс в виде разрозненных норм о преступлениях в сфере спорта на сегодняшний день является малоэффективным. Отдельные нормы появились в уголовном законе ввиду поспешной реакции на экономические и политические изменения, в том числе в условиях искусственно созданной необходимости.
Во-вторых, несмотря на автономность и закрытость сферы спорта, общественные отношения, складывающиеся в ней, требуют внешнего вмешательства в случае нарушения прав и интересов человека, общества и государства. Представление о спорте как объекте уголовно-правовой охраны является верным. Вместе с тем уголовно-правовой охраны тре- буют не все отношения в сфере спорта, а только те из них, которые формируются в профессиональной спортивной деятельности.
В-третьих, в перспективе переработки УК РФ необходимо разрешить вопросы о формировании самостоятельной главы «Преступления в сфере спорта», о расположении данной главы и ее содержании. В случае дополнения уголовного закона подобной главой в нее должны быть включены составы преступлений против жизни и здоровья спортсмена, против установленного порядка проведения спортивных соревнований, в том числе «антидопинговые» нормы.
Считаем своевременным обсуждение вопроса о сфере спорта как объекте уголовно-правовой охраны. Предложенные нами выводы не содержат однозначного решения проблемы и не претендуют на статус истины, но должны послужить научной общественности стимулом к дальнейшему исследованию некогда отложенной проблемы.