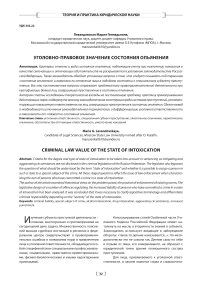Уголовно-правовое значение состояния опьянения
Автор: Левандовская Мария Геннадьевна
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (58), 2020 года.
Бесплатный доступ
Критерии степени и вида состояния опьянения, подлежащие учету при назначении наказания в качестве смягчающих и отягчающих обстоятельств не раскрываются в уголовном законодательстве Российской Федерации. Также законодатель обходит уточнение вопроса о том, что следует понимать под термином «состояние опьянения» и возможно ли отнесение лица в подобном состоянии к специальному субъекту преступления. Все эти постановочные вопросы отражают проблематику правоприменительной деятельности при квалификации деяний лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Автором статьи исследованы теоретические взгляды на поставленную проблему, практику правоприменения действующих норм; подвергнута анализу законодательная конструкция ряда составов преступлений, регламентирующих повышенную ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Сделан вывод о необходимости уточнения законодательной терминологии и дифференциации уголовной ответственности в зависимости от «тяжести» состояния опьянения.
Уголовная ответственность, специальный субъект преступления, алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, обстоятельства отягчающие ответственность, ужесточение наказания
Короткий адрес: https://sciup.org/14120009
IDR: 14120009 | УДК: 343.22
Текст научной статьи Уголовно-правовое значение состояния опьянения
И зучение субъекта преступной деятельности – сложная, многогранная и противоречивая на сегодняшний день задача. Множественность пояснений высших судебных инстанций в регионах и федеральном центре свидетельствуют о правоприменительных ошибках в толковании норм о привлечении лица к уголовной ответственности, обладающего особой спецификой (или специальными профессиональными, социальными, нравственно-ориентированными, физико-биологическими и иными характерными признаками).
Конструирование статей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации может натолкнуть на мысль о вторичности знаний о субъекте. Законодатель использует вводящие в заблуждение обороты: «такое-то деяние наказывается...». Но методологически это не совсем так. Деяние само по себе в отрыве от лица, его совершившего, не образует с юридической точки зрения полноценного состава преступления.
Для лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в законе имеются слова и словосочета- ния: «виновный», «осужденный», «лицо», «лицо, совершившее преступление», «лицо, подлежащее уголовной ответственности». Нет в законодательстве при этом понятия субъекта преступления или специального субъекта, хотя УК РФ насчитывает свыше 40% составов со специальным субъектом.
Проблемные аспекты в понимании специального субъекта связаны с единообразным пониманием черт, характеризующими это лицо. Такие черты должны иметь тесную взаимосвязь и взаимообусловленность с чертами общего субъекта преступления, – это: данные о личности, вменяемости, возрасте лица. Сложности толкования специфики особого субъекта связана с его правовой природой, она не обусловлена исключительно уголовно-правовыми истоками, а в равной мере имеет отраслевую правовую принадлежность. Подобное усложнение затрудняет единообразное применение норм уголовного права в части толкования признаков специального субъекта.
Ежегодная статистика неумолимо отмечает, что около трети преступлений совершаются лицами в состоянии опьянения. При чем, в состоянии наркотического опьянения доля таких преступлений составляет около 2%. В целом среди криминального контингента по данным МВД России на конец 2018 года зафиксировано 67400 человек страдающих алкогольной зависимостью и 52400 человек – наркотической. Все эти лица уже состоят на учете, при этом, как отмечается в отчете МВД России о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год, – они представляют опасность для окружающих [3].
Состоянием опьянения в юридических справочниках и энциклопедиях называют: «психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных напитков и выражающееся в снижении способности человека отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими» [9,с.214]. Опасность опьянения кроется в деградации личности, ее ценностно-нравственных установок и крайне низком уровне правосознания. Поэтому отечественный законодатель устанавливает уголовную ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения, вызванном любым из одурманивающих веществ (спиртные напитки, наркотические, психотропные и иные средства), наравне с другими лицами, совершившими деяния (ст. 23 УК РФ). Суд при назначении наказания может с учетом совокупности имеющихся по делу обстоятельств признать состояние опьянения в качестве отягчающего (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ). Наряду с назначением наказания судом могут быть назначены меры медицинского и социально-реабилитационного характера к больному наркоманией (ст. 72.1 УК РФ). Также при установлении паталогического опьянения как фактора психического отклонения, может быть поставлен вопрос о вменяемости лица, совершившего преступление и назначения ему принудительных мер медицинского характера.
В чем же актуальность обозначенной темы? Казалось бы, законодатель предусмотрел всю специфику привлечения лица в состоянии опьянения к уголовной ответственности и правил назначения ему наказания, но не отнес его к категории специального субъекта преступления.
Выявление признаков специального субъекта носит характер определения своеобразных маркеров уголовной ответственности: есть они – будет и ответственность. Рассматривать признаки специального субъекта можно с позиции завершенности конкретного состава преступления – когда признак субъекта совпадает с конструкцией состава. Для правоприменителя признак специального субъекта может служить еще и маркером того, где искать доказательства (по месту службы, в семье, окружающей среде и т.д.). Так что значение признаков специального субъекта многогранно и нет единого подхода ни в теории, ни в законодательстве, ни в практике. Отправной точкой для правильного решения этой проблемы могло бы стать установление того, что деяние считается уголовным преступлением, только если в социально опасном деянии обнаружены все признаки преступления.
Признаки субъекта преступления, в том числе лица в состоянии опьянения, имеют три юридически значимых проявления:
-
1) Они являются обязательными для определения преступления, когда речь идет об условии уголовной ответственности;
-
2) Расцениваются как факультативные обстоятельства, влияющие на дифференциацию подлежащей применению нормы;
-
3) Индивидуализируют ответственность.
Не снижается острота полемики между учеными об обоснованности отнесения всех форм и стадий опьянения к обстоятельствам, могущим быть расцененными исключительно как отягчающие [6].
Проиллюстрируем сказанное на наглядном примере: в ходе пересмотра приговор и постановление Нижегородского областного суда оставлены без изменений в связи с правильной квалификацией деяния как соисполнительство женщины в изнасиловании. Осужденная считала, что участие женщины в преступлении, которое может совершить по своим физиологическим возможностям лишь мужчина, не может квалифицироваться как изнасилование. Суд же опроверг этот довод и указал на активную роль женщины в отношении приискания жертвы, удержания силой во время полового акта, затыкания рта и лишения таким образом возможности обратиться за помо- щью. Кроме того, после насилия в отношении жертвы мужчиной, осужденная в состоянии алкогольного опьянения и пользуясь беспомощным связанным положением потерпевшей, сама совершила действия сексуального характера в отношении потерпевший, что свидетельствует о направленности умысла. Все это позволило суду признать правильность квалификации в групповом изнасиловании [2].
При этом автором исследуются вопросы влияния степени опьянения от соответствующих видов одурманивающих напитков и веществ на способность лица осознавать характер своего поведения и его юридические последствия. Социально-правовые и психофизиологические свойства личности агрессора (пол; возрастные биологические показатели – венерические заболевания и ВИЧ-инфекция) особенно проявляются под воздействием длительного приема одурманивающих веществ. Например, по Делу № 76082/2019 от 20.11.2019 года Бутырским районным судом города Москвы было установлено: Алексеев Д.П. виновен в том, что совершил преступные действия по заражению другого человека вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ). При этом осужденный знал о своем заболевании, но намеренно не сообщил об этом сожительнице, вступал с ней в незащищенные половые контакты в состоянии наркотического опьянения, после чего та была заражена и поставлена на учет. Таким образом совершено заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни [1]. В этом деле примечательно то, что оценке в суде подлежал только факт умышленного заражения инфекцией, а состояние опьянения, степень и длительность употребления наркотических препаратов подсудимым и возможность влияния наркотического состояния опьянения на осознание последствий своих поступков, не подлежало выяснению. Думается, что в ситуации из примера возможность толкования состояния опьянения можно было бы толковать двояко: с одной стороны, суд мог бы воспользоваться положениями части 1.1 ст. 63 УК РФ и расценить факт наркотического опьянения как обстоятельство, отягчающее ответственность. С другой стороны, по мнению автора, в приведенной ситуации необходимо было бы назначить комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу с целью выяснения не повлияло ли состояние наркотического опьянения и длительность приема «тяжелых» наркотиков на возможность подсудимого осознавать характер совершаемых действий. Также необходимо уточнить и показания потерпевшей, утверждавшей о неосведомленности наличия у подсудимого ВИЧ-инфекции, долгое время сожительствуя с Алексеевым Д.П., принимавшей совместно с последним наркотические препараты, – не подвергнуты критическому анализу и не назначена в связи с этим ни одна экспертиза. В этом деле больше вопросов с позиции рассматриваемой темы, нежели ответов во всех принятых судебных решениях.
Учеными предпринимаются попытки проведения сравнительного анализа с законодательством и правоприменительной практикой зарубежных государств, где не все так однозначно в подходе об усилении ответственности лиц в состоянии опьянения [7]. Также исследователей не устраивает законодательная правоустанавливающая формулировка положения части 1.1 ст. 63 УК РФ, позволяющей суду по своему усмотрению решать вопрос об учете состояния опьянения в качестве отягчающего обстоятельства [4].
Оценивая результаты приведенных мнений, следует свести их к двум направлениям: 1) Состояние опьянения следует рассматривать в некоторых случаях как обстоятельство, смягчающее ответственность, и 2) Необходимость ужесточения ответственности ввиду допущения лицом состояния опьянения как провоцирующего, агрессирующего фактора. В целом теория и практика созвучны в потребности дифференциации юридической оценки состояния опьянения, что уже отражено законодателем, как конструктивные признаки некоторых составов преступлений. К примеру, ст. 263 в частях 1.2, 2.1, 4, ст. 264 в частях 2, 4, 6, ст. 263 и ст. 264.1 УК РФ состояние опьянения рассматривается в качестве основного или дополнительного квалифицирующего признака. При этом под состоянием опьянения часть 2 ст. 264 УК РФ называет такое состояние лица, управляющего транспортным средством, которое вызывается употреблением алкогольной продукции на основе и в эквиваленте этилового спирта, наркотических, психотропных и других психоактивных веществ. В случае квалификации указанных деяний, отсутствие специального признака– состояние опьянения, зафиксированного на основании результатов медицинского освидетельствования, не образует качественных признаков субъекта преступления и, соответственно, не образует уголовной ответственности.
В последние годы происходит неизменный рост преступлений, совершаемых специальным субъектом. Исследователи называют цифры прироста от 9% до 13% ежегодно на протяжении 2015-2019 годов. Связано это со многими причинами, в числе которых социальное и экономическое неравенство между различными слоями населения. Идет и своеобразный законодательный процесс. Так называемое «очеловечивание» уголовного права предполагает индивидуальный подход в назначении наказаний, а это прямой путь к поиску специальных маркеров и установок для наказания. Что мы и наблюдаем в последние несколько лет. Происходит декриминализация преступлений, появляются уголовные проступки. Этот путь порочен хотя бы тем, что в науке появляются термины «специальный потерпевший», «спарринг в субъекте» и т.д. [5, 8].
Состоянию опьянения, как конструктивному признаку субъекта преступления или дополнительному квалифицирующему признаку, нет объяснения в других статьях уголовного закона, в том числе в общей его части, что ведет к неправильному толкованию этого субъективного фактора в правоприменительной деятельности.
Достаточно распространенными ошибками при квалификации указанных преступлений можно считать: неопределенность в понятиях «употребление алкогольных напитков» и «состояние опьянения»; применение положений административного законодательства об отказе в прохождении медицинского освидетельствования водителем и автоматического признания его находящимся в состоянии опьянения.
Итак, значение субъекта преступления в состоянии опьянения, на наш взгляд, в следующем. Во-первых, сущность своеобразных маркеров уголовно-правового характера в статусе такого субъекта заключается в связи состояния опьянения с составом преступления, что позволяет нам проводить дифференциацию и отграничиться от смежных составов преступлений. Во-вторых, признаки специального субъекта в состоянии опьянения могут являться частью отягчающих обстоятельств, служить базовой предпосылкой для ужесточения уголовной ответственности. И, в-третьих, на основе индивидуальных личных характеристик лица (специального субъекта в состоянии опьянения) формируются определенные правовые свойства, позволяющие максимально повысить индивидуальность ответственности за преступление и выбрать наиболее подходящее наказание.
Таким образом, субъектом преступления в состоянии опьянения является, по мнению автора, лицо, совершившее социально опасное уголовно-наказуемое деяние под воздействием одурманивающих сознание средств и психоактивных веществ, имеющих различную органико-токсилогическую природу, но не исключающих состояние вменяемости и способности нести юридическую ответственность.
Под специальным субъектом преступления, в самом общем теоретическом смысле, по нашему мнению, следовало бы считать лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта преступления, другими характеризующими его особый правовой статус и повышенную степень ответственности свойствами, подлежащими установлению в каждом конкретном случае субъектом доказывания индивидуально. Полагаем возможным к таким признакам отнести: должностное положение; круг служебных обязанностей и выполняемых функций; военнообязанность и принадлежность к воинской службе; выполнение функции управления транспортным средством (иным средством передвижения повышенной опасности); выполнение функции сопровождения и оказания со- действия в отправлении правосудия, состояние опьянения и другие.
Кругэтихпризнаковнеможет носить исчерпывающий характер ввиду многообразности криминальных ситуаций. На практике возможно будет складываться ситуация сочетания специального и общего субъекта и их признаков, что неизменнодолжно отражаться в правилах квалификации преступлений. Эти правила должны носить специальный характер, должны быть сформулированы на основе обобщения и анализа судебной и следственной практики и адресованы практическим работникам, принявшим дело к своему производству или материалы проверки о совершенном или готовящемся преступлении в порядке ст. ст. 140-146 УПК РФ. Именно на этом этапе возникает острая необходимость правильного применения знаний о специальном субъекте для выяснения вопроса о наличии или отсутствии признаков конкретного состава преступления, а значит наличия основания к возбуждению уголовного дела и его последующего производства.
Также автором предлагается на теоретическом и методическом уровнях разработать признаки рассматриваемого специального субъекта, а в УК РФ закрепить следующее: «Часть 2 ст. 19 УК РФ: Уголовной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения общественно опасного деяния указанного законом возраста и обладающего специальными признаками».
Правовая оценка субъекта как специального, нередко сопряжена с разграничением действий двух и более лиц, тогда возникает вопрос соучастия и необходимости квалификации действий и признаков, характеризующих особого субъекта в отдельности от других соучастников, при этом важно выявить направленность умысла. В ходе исследования было установлено при этом, что все признаки субъективной стороны тесным образом переплетены между собой и оказывают равнозначное влияние на квалификацию деяния с участием специального субъекта. Но специальные признаки должны сопрягаться и с объективной стороной преступления, а точнее способом его совершения, о чем был приведен классический пример соучастия женщины в изнасиловании.
Разнообразие комбинаций признаков специального субъекта – выступают своеобразным «рельефом» определения и индивидуализации уголовной ответственности. В целом уголовно-правовой анализ специального субъекта, в том числе лица в состоянии опьянения, по детерминирующим признакам позволяет сделать вывод о формировании у такой личности совокупности социально-психологических, ценностно-ориентированных, мотивационных и про-фессионально-деформирующих свойств. Это требует учета не только при квалификации, но и при предупреждении и профилактики преступлений.
Список литературы Уголовно-правовое значение состояния опьянения
- Дело № 76082/2019 от 20.11.2019 г., рассмотренное Бутырским районным судом г. Москвы: [Электронный ресурс] // Официальный сайт Бутырского районного суда г. Москвы: раздел "Новости". - Режим доступа: https:// www.mos-gorsud.ru/rs/butyrskij. - Дата обращения: 04.02.2020.
- Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 04.09.2007 г. № 9-О07-61 по делу Ф. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 5.
- Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2018 год [Электронный ресурс] / Официальный сайт МВД РФ. - Режим доступа: https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/001/869/963/Godovoy_otchet_za_2018.
- Дзиконская, С.Г. Криминологическая экспертиза новелл УК РФ 2013 г. (на примере ч. 1.1 ст. 63 УК РФ) / С.Г. Дзиконская // Законность и правопорядок в современном обществе.- 2013. - № 16. - С. 120-123.
- Карабанова, Е.Н. Квалификация многообъектных преступлений по признаку специального социального статуса потерпевшего / Е.Н. Карабанова // Российский следователь. - 2018. - № 9. - С. 38-42.
- Кругликов, Л.Л. Учет состояния опьянения при назначении наказания. // Уголовный процесс. - 2006. - № 9. - С. 50-53.
- Унтевская, В.Д. Уголовно-правовое значение совершения преступления в состоянии опьянения по зарубежному законодательству / В.Д. Унтевская // Результаты современных научных исследований и разработок: сб. статей IV Международной научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во: МЦНС "Наука и Просвещение", 2018. - С. 127-129.
- Шемякин, Л.Л. Проблемы теории специального субекта преступления / Л.Л. Шемякин // Пробелы в российском законодательстве. - 2009. - № 3. - С. 99-102.
- Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. - М., 1984. - С. 214. - 415 с.