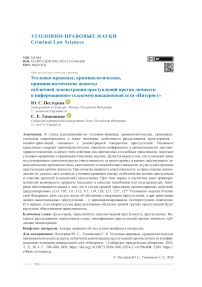Уголовно-правовые, криминологические, криминалистические аспекты публичной демонстрации преступлений против личности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Автор: Пестерева Ю.С., Тимошенко С.Е.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 т.21, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристики, а также некоторые особенности расследования треш-стримов - онлайн-трансляций, связанных с демонстрацией совершения преступлений. Указанные трансляции содержат криминалистически значимую информацию и пропагандируют противоправное поведение, в связи с этим действия лиц, причастных к подобным трансляциям, подлежат уголовно-правовому и криминалистическому анализу. Делается вывод о том, что уголовный закон не устанавливает самостоятельную ответственность за треш-стримы, в рамках действующего законодательства произошло лишь ужесточение уголовной ответственности за уже существующие преступления против личности. При попытке закрепить ответственность за треш-стримы законодателю не удалось дать должную уголовно-правовую оценку особенностям мотива преступника и участию зрителей (слушателей) треш-стрима. При этом нормы о соучастии дают правоприменителю возможность привлечь последних в качестве пособников или подстрекателей. Авторами обосновывается вывод о том, что в случае прямой трансляции противоправных действий, предусмотренных ст.ст. 105, 111, 112, 117, 119, 126, 127, 1271 , 1272 Уголовного кодекса Российской Федерации, речь следует вести об обстановке совершения преступления, а при трансляции записи вышеуказанных преступлений - о криминализированном постпреступном поведении. И в первом, и во втором случае факультативным объектом данной группы преступлений будет выступать общественная нравственность.
Треш-стрим, треш-контент, насильственная преступность, преступление, интернет, расследование, виртуальные следы, квалификация преступлений против личности, публичная демонстрация
Короткий адрес: https://sciup.org/143183336
IDR: 143183336 | УДК: 343:004 | DOI: 10.19073/2658-7602-2024-21-4-596-608
Текст научной статьи Уголовно-правовые, криминологические, криминалистические аспекты публичной демонстрации преступлений против личности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Научный прогресс и развитие технологий влияет не только на повседневную жизнь граждан, но и на такую достаточно консервативную отрасль права, как уголовное право. Необходимо отметить, что для современной уголовноправовой политики характерны разнонаправленные тенденции: как смягчение, так и ужесточение ответственности за разные группы преступлений. Наиболее по- казательным примером либерализации уголовно-правового законодательства является группа норм, регулирующих ответственность за экономические и налоговые преступления. Противоположная тенденция проявляется в ужесточении ответственности, например, за преступления, посягающие на основы конституционного строя, чей количественный состав за последние три года вырос в полтора раза, а санкции были значительно усилены.
Законодатель активно использует методы криминализации и декриминализации, а также пенализации и депенализации для наиболее адекватного реагирования на социальные, экономические, политические и военные вызовы, которые стоят перед современным российским обществом. Криминализация в свою очередь может носить опережающий, запаздывающий или своевременный характер относительно того явления, которое представляет общественную опасность. Примером опережающей квалификации, на наш взгляд, являются ст.ст. 2071 и 2072 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), которые были приняты в разгар антиковидных мер. Запаздывающая криминализация – это придание признаков преступления общественно опасному деянию тогда, когда оно уже получает широкое распространение и представляет реальную угрозу для общества. Например, установление уголовной ответственности за действия, предусмотренные ст.ст. 1101 и 1102 УК РФ. Полагаем, что меры, направленные на уголовно-правовое регулирование преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных сетей или с их использованием, носят также запаздывающий характер. Активное применение преступниками данных сетей, прежде всего сети «Интернет», породило дискуссии в научной среде о том, является ли такое использование лишь способом совершения уже определенных законодателем преступлений или мы имеем дело с новыми по своей природе общественно опасными явлениями. Изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 218-ФЗ1, свидетельствуют о том, что парадигмальным остается консервативный (первый) под- ход. В настоящей статье мы попробуем осветить отдельные уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты такого уголовно-правового признака, как «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть “Интернет”)», в свете дискуссии о криминализации так называемых треш-стримов.
Уголовная характеристика
Треш-стрим (англ. trash – «мусор, отбросы, сор»; stream – «поток») – это сленговое понятие, применяемое в отношении потокового видео или аудио, содержащего провокационный контент насильственного характера. Он зародился на территории СНГ в начале 2010-х гг. Ведущий – стример – в процессе съемки (аудиотрансляции) совершает над собой или гостями опасные для здоровья либо как минимум унизительные действия, попутно призывая зрителей (слушателей) перечислять в его пользу денежное вознаграждение. Величина заработка стримера напрямую зависит от его популярности, способности привлечь публику [1].
В научной среде предложения об установлении уголовной ответственности за подобные действия высказывались уже достаточно давно. Однако первой серьезной законодательной инициативой в этом направлении следует признать законопроект, представленный 21 января 2021 г. главой Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексеем Пушковым2. В данном законопроекте предлагалось дополнить ст. 282 УК РФ частью третьей следующего содержания: «Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинство личности, совершенные публично с использованием сети “Интернет” в режиме реального времени и в видеозаписи с целью извлечения материальной или иной (наращивание популярности) выгоды».
Данное предложение вызвало обоснованные возражения. Во-первых, основы конституционного строя никак не могут быть видовым объектом данных действий. Во-вторых, использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», уже закреплено в ч. 1 ст. 282 УК РФ. В-третьих, содержание предлагаемой части противоречит самой сути ст. 282 УК РФ, поскольку действия в ее рамках должны быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Обсуждаемая же часть третья содержит совсем иной ведущий мотив, который выглядит не как квалифицирующий признак, а как самостоятельная норма.
Можно сказать, что к 2021 г. сформировалось три основных подхода в части криминализации треш-стримов: 1) конструирование независимой нормы; 2) введение унифицированного признака в отдельные составы преступлений против личности; 3) закрепление специального обстоятельства, отягчающего наказание, в ст. 63 УК РФ [2, с. 99]. В итоге законодатель выбрал комбинацию второго и третьего вариантов. Необходимо отметить, что широко распространившиеся информация о том, что Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 218-ФЗ установлена от- ветственность за треш-стримы, не соответствует действительности. Никакой специальной нормы не создано, формально произошло ужесточение уголовной ответственности за уже существующие преступления против личности, совершённые с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Этот квалифицирующий признак не является новым и используется для конструирования норм уже более десяти лет. Проблема в том, что применительно к преступлениям, перечисленным в вышеназванном Федеральном законе, сеть «Интернет», в частности, не может рассматриваться как средство или способ совершения преступления, так как не участвует в механизме причинения вреда, в отличие, например, от ст. 1281 УК РФ («Клевета»), где использование средств массовой информации и сети «Интернет» значительно увеличивает круг осведомленных о заведомо ложных сведениях, порочащих честь и достоинство потерпевшего, а следовательно, выступает более эффективным средством совершения преступления, чем пересказ этой информации нескольким людям на улице. В качестве примера приведем также п. «и» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Похищение человека может транслироваться как онлайн, так и путем опубликования соответствующей записи через определенное время, даже после освобождения похищенного. Во втором случае это не является частью объективной стороны самого похищения, поскольку это не способ, не средство и не обстановка преступления. Также возникает вопрос о том, можно ли рассматривать требование выкупа, направленное членам семьи похищенного, через призму этого пункта. Считаем, что здесь, вероятнее всего, имеется в виду часть объективной стороны ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), а не похищения человека. Таким образом, встает вопрос:
какова природа этого квалифицирующего признака (для группы исследуемых преступлений), особенно в случаях распространения контента уже после совершенного преступления? Полагаем, что речь идет о факультативном объекте в виде общественной нравственности. Учитывая, что изменения во многом были обусловлены резонансными случаями именно с треш-стримерами (Mellstroy, Reeflay, RTeshka)3, то предполагалось закрепить общественную опасность публичного распространения подобного контента. Однако мотивация треш-стримеров, зачастую наличие согласия жертвы на причинение вреда и специфическое участие зрителей (слушателей) выводит данные действия за пределы классических побоев, причинения легкого вреда здоровью и т. д. Полагаем, что в случаях прямой трансляции противоправных действий речь может идти об обстановке совершения преступления (и то с оговорками). Последующее же опубликование аудио-, видеозаписи следует рассматривать как криминализированное постпреступное поведение (по аналогии с п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 4, п. «б» ч. 5, п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Если мы обратимся к перечню статей, которые были изменены, то можно отметить определенную непоследовательность законодателя. В перечне есть ст.ст. 1271, 1272 УК РФ, но нет ст. 156 УК РФ и преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Отсутствие криминализации исследуемых действий применительно к неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего вызывает особое удивление, поскольку в сети «Интернет» неоднократно размещались видеофайлы с подобным содержанием. С преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности позиция законодателя не совсем понятна. Во-первых, давно назрела необходимость криминализации домогательств, осуществляемых посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Статья 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера») не соответствует современной ситуации и возможностям виртуального преследования жертвы, более того, подобное преследование может не иметь своей целью склонение к сексуальному контакту, а следовательно, находится полностью за рамками состава. Во-вторых, несомненно, что трансляция или последующее размещение аудио-, видеозаписи насильственных или добровольных действий сексуального характера (с лицами от 12 до 16 лет), значительно повышает степень общественной опасности указанных преступлений. Последствия распространения подобной информации крайне негативно сказываются на потерпевшем, именно поэтому дела по ст.ст. 131 и 132 УК РФ носят характер закрытого судебного заседания.
Криминологические аспекты
Насильственную преступность можно определить как совокупность таких преступлений, совершение которых связанно с применением физического или психического насилия, выступающего в качестве элемента мотивации или служащего способом достижения какой-либо цели.
В криминологии выделяются два типа насильственной преступности: насильственно-эгоистическая и корыстно-насильственная. К первому типу относятся процессуальные преступления (приносят удовлетворение самим процессом их совершения), ко второму – инструментальные (служат способом решения тех или иных проблем). Треш-стримы по большей части относятся ко второй группе.
Социально-психологические факторы являются центральными для понимания детерминации насильственной преступности. В криминологической литературе предложен интересный подход к оценке указанных факторов через категорию «нравы» [3, с. 15]. Не оспаривая методологический подход по существу, хотелось бы отметить, что понятие «нравы» не имеет четко выраженных научных критериев и признаков. В этой связи, с нашей точки зрения, более целесообразно оперировать такими научными категориями, как «общественное сознание» и «общественное настроение», которые в совокупности своей и составляют социальнопсихологические детерминанты.
Под общественным сознанием понимается духовная сфера жизнедеятельности общества, обобщенное отражение объективных условий его существования, исторического типа общественного бытия, система духовных ориентиров и общесоциальных ценностей. Общественное сознание нации определяется ее историческим прошлым, этическими социостереотипами, длительно действовавшими в истории народа условиями его существования, культурными и экономическими традициями.
Общественное настроение – эмоциональная характеристика состояния общественной психологии, влияющая на импульсивное поведение масс; определенное состояние чувств и умов в больших социальных группах, предпосылка социально-политических сдвигов. Оно базируется на общественном сознании, которое, следует отметить, является от- носительно стабильным элементом, эволюционирует намного медленнее, чем экономические и политические составляющие социума. В отличие от общественного сознания (национального характера) общественное настроение –более лабильный компонент социально-психологических детерминант. Общественное сознание само по себе нейтрально по отношению к преступности, оно не может быть плохим или хорошим. Общественные настроения, в свою очередь, в определенных ситуациях могут обладать негативным потенциалом.
На общественное настроение значительное влияния оказывает массовая культура в самом широком ее понимании. В последние десять–пятнадцать лет влияние традиционных культурных институтов, таких как телевидение, театр, кино, СМИ, существенно уменьшилось: их потеснила сеть «Интернет». Можно привести такие интересные данные: 87 % российских домохозяйств имеют доступ к сети «Интернет»; 93,5 % ежедневно пользуются сетью (по этому показателю Россия занимает пятое место в мире); Россия находится на первом месте в мире, кто использует сеть «Интернет» для коммуникации; 25 % пользователей загружают личные файлы для публичной демонстрации; 95 % российских подростков 12–14 лет ежедневно пользуются сетью4. Содержание интернет-контента можно охарактеризовать цитатой Г. Н. Носачёва: «…происходит подмена естественного, доброго, эмпатического, рефлексивного отношения к ребенку и другим членам семьи на псевдоестественное, злобное, отчужденное, тревожное воспитание, отчужденные отношения между членами семьи, между семьями, конкуренция везде и во всем с помощью обмана лжи, вранья и неосознаваемой дезинформации. Объектами восприятия, подражания,
Сибирское юридическое обозрение. воспроизведения, дискуссии и пересказа являются маргинальные, криминальные или патологические обстоятельства и герои. Обильный показ сцен убийств, насилия, боли обесценивает человеческую жизнь, человеческие чувства, в первую очередь доверие к людям, а соответственно, физическое и психическое здоровье, на смену добру приходит зло, правде (честности) – ложь, обман, изворотливость, законы бизнеса и т. п., человеколюбию – ненависть, разврат, жестокость и т. д.» [4, с. 18–19].
Массовая культура создает и пропагандирует определенную модель поведения человека, гарантирующую успешность в современной жизни. Одними из элементов, ее составляющих, являются агрессивность, насильственное решение конфликтов, отсутствие рефлексии. Кроме того, массовая культура пропагандирует (прямо и косвенно) не только агрессию, но и аутоагрессию. Интернет-пространство дает практически неограниченную возможность для распространения деструктивной модели поведения, более того, возможность получить материальную выгоду делает эту модель весьма привлекательной, особенно для молодого поколения. Анонимность и отчужденность от жертвы порождает чувство безнаказанности и какой-то извращенной уникальности. Существующие нормативные акты уже сейчас позволяют блокировать и удалять опасный контент. Однако более пристальное внимание следует уделить модерированию сайтов и видеохо-стингов, а также блокированию деструктивной информации, распространяемой онлайн [5, с. 100]. Так как зачастую администрирующие организации, распространяющие запрещенный контент в сети «Интернет», находятся на территории зарубежных стран, встает вопрос о создании защищенной информационной-телекоммуникационной сети по типу, например, китайского варианта.
Особенности расследования преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стрима
Как нами уже отмечалось, формально произошло ужесточение уголовной ответственности за уже существующие преступления против личности, совершённые с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Учитывая то обстоятельство, что судебная практика расследования преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стримов, практически отсутствует, эмпирическую базу проводимого исследования составили результаты изучения публикаций в различных источниках, включая сеть «Интернет».
Отметим, что методику расследования преступлений можно представить как систему научных положений и разрабатываемых на их основании рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп. Принимая во внимание избранную тематику, мы интересуемся методикой расследования преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стримов. Среди основных элементов этой частной криминалистической методики (методики расследования преступлений конкретного вида), как правило, выделяются:
– криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений;
– обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида (группы);
– особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
– порядок действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций;
– особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;
– особенности применения специальных знаний по делам данной категории.
Ввиду ограниченного объема научной статьи вопросы, связанные со спецификой возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования, а также с порядком действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций, будут являться предметом будущих исследований.
Криминалистическая характеристика преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стрима
Аргументом в пользу криминализации деяний, о которых идет речь в проводимом нами исследовании, является возможность определения их криминалистической характеристики.
Так, криминалистическая характеристика преступлений – это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.
К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:
– предмет (объект) преступного посягательства;
– способ совершения и сокрытия преступления;
– обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т. д.);
– механизм следообразования в широком смысле;
– личность преступника и жертвы.
Однако следует принять во внимание, что в данный момент совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), является не преступлением, а лишь одним из обстоятельств, отягчающих наказание (п. «т» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Исходя из этого, каждый элемент криминалистической характеристики следует рассматривать комплексно с учетом базовых преступлений, к числу которых целесообразно отнести убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, если они сопровождались ведением треш-стрима.
Отметим, что предметом преступного посягательства (в криминалистическом смысле тем, на что непосредственно направлены преступные посягательства) являются вещи материального мира, принадлежащие потерпевшему: одежда, бытовая техника, мебель, посуда, транспортные средства и др. Объектом преступного посягательства, сопровождающегося ведением треш-стрима, чаще всего является жизнь, здоровье человека, его половая неприкосновенность, психическое состояние.
Что касается способов совершения преступлений, которые демонстрируются посредством треш-стримов, то они весьма разнообразны:
– насилие: нанесение побоев, причинение вреда здоровью различной тяжести, лишение свободы передвижения, причинение смерти;
– унижение: разбивание яиц о голову, кормление испорченной едой, обливание помоями, надевание грязного нижнего белья на голову, измазывание фекалиями и т. д.;
– аморальное поведение: испражнение в ванную, секс во время трансляции, унизительные действия и др. [6];
– повреждение имущества: дверей, предметов мебели, бытовой техники, автомобилей и проч.
Сокрытие следов преступления не только не характерно, но и, напротив, лицо, совершающее его, нацелено на демонстрацию неправомерных действий как можно большему кругу лиц. Единственным способом противодействия расследованию может являться трансляция по закрытым каналам, доступным только подписчикам.
К обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, относят наиболее характерное время и место совершения преступления. Исследование соответствующих публикаций показывает, что чаще всего треш-стримы транслируются из жилища (дома, квартиры) стримера или его жертвы, реже – с улицы, из парка, автомобиля и т. д. Преступления такого рода совершаются преимущественно в вечернее время, независимо от времени года, реже – ночью и днем.
Механизм следообразования обусловлен не только способом совершения преступления, но и фактом онлайн-транс-ляции. Отсюда имеют место все следы, которые можно встретить при совершении указанных выше преступлений – как материальные, так и идеальные: следы крови, рук, ног, обуви, мысленные образы, сохранившиеся в памяти свидетелей, а также цифровые следы, сохранившиеся на мобильных устройствах, планшетах, компьютерах и иных устройствах, с которых не только запускалась онлайн-трансляция, но и просматривалась зрителями (прослушивалась), видеозаписи с прилегающей территории, если преступление совершено на местности, МАС-адреса, зафиксирова-ные при совершении преступлений, и т. д.
Преступники данной категории зачастую мужского пола. Большинство треш- стримеров – молодые люди от 18 до 29 лет, реже – в возрасте 30–45 лет. Треш-стримингом могут заниматься как лица без образования, так и имеющие высшее образование. Однако для настройки стри-мов необходимы определенные навыки пользования компьютером. Как правило, треш-стримеры не имеют постоянной работы, деньги они получают с блогов. Именно треш-контент может способствовать увеличению количества просмотров и, как следствие, улучшению материального положения таких лиц. Чаще всего треш-стримеры не состоят в официальном браке, так как семейные отношения способствуют социализации человека, снижению антисоциальности поведения. Социальное положение стримера – самозанятое лицо, официально не уплачивающее налоги на полученные доходы. Треш-стримеры ранее не судимы, что объясняется в первую очередь их возрастом [7, с. 13].
Жертвами преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стрима, являются взрослые (реже – мужчины, чаще – женщины): престарелые родители, бабушки, дедушки (треш-стримера или его знакомых); дети (родные, приемные, дети сожителей); сожители или супруги; бездомные; лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью; случайные люди (окружающие на улице). Следует отметить, что треш-стриминги проводятся и в целях демонстрации издевательств над животными.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)
В рамках расследования уголовного дела демонстрацию преступления во время треш-стрима необходимо
Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 4 коммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);
-
- кто совершил преступление; если оно совершено несколькими лицами, какова роль каждого из них;
-
- цели и мотивы преступления (корысть, хулиганские побуждения и др.).
Приведенный перечень обстоятельств должен быть конкретизирован в зависимости от индивидуальных особенностей каждого преступления, сопряженного с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
Особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий
Как правомерно отмечает В. А. Косых, факт трансляции совершаемого преступления должен быть зафиксирован и должен находить объективное подтверждение в материалах уголовного дела. Это возможно достичь следующими процессуальными действиями: выемка скриншотов (снимков экранов) у свидетелей; выемка записи трансляции со стриминговой платформы; изъятие в ходе осмотра места происшествия или обыска мобильных устройств, компьютеров, планшетов, с которых запускалась онлайн-трансляция; последующее производство компьютерной судебной экспертизы, в рамках которой также возможно извлечение истории браузера.
Установление факта совершения преступления, транслировавшегося в Сети, осуществляется посредством допросов свидетелей из числа следующих лиц:
-
– целенаправленно следивших за трансляцией;
-
– которые стали невольными зрите-лями/слушателями (трансляция вышла в числе рекомендаций);
рассматривать как обстоятельство, подлежащее установлению и доказыванию, в связи с чем перечень сведений, подлежащих установлению, может выглядеть следующим образом:
-
- имело ли место преступление (убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда и др.);
-
- в отношении кого совершено преступление (личность потерпевшего), какими данными он характеризуется, его взаимоотношения с лицом (лицами), совершившим (-ми) преступление; не совершено ли преступление с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);
-
- когда и где совершено преступление, сопровождающееся ведением треш-стрима;
-
- на какой платформе (в какой поисковой системе) проводилась трансляция треш-стрима: Google, Yandex, Rambler, в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook*, Twitter, «Живой Журнал», «Одноклассники», «Мой мир», в фотосервисах «Фотострана», Instagram*, Telegram, видеохостингах YouTube, Rutube;
-
- кто, каким образом и какие суммы денег зачислял на счет преступника во время проведения треш-стрима; какие электронные кошельки использовал преступник (Yota, RBK-money, Yandex-деньги и подобные им);
-
- каким способом, с использованием каких орудий и средств и при каких обстоятельствах совершено умышленное преступление с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-теле-
-
– находившихся в месте совершения преступления (по месту съемки/транс-ляции);
– из круга общения лица, осуществлявшего трансляцию, его родственников, членов семьи, сожителей.
Что касается лиц, которые целенаправленно просматривали/прослушивали стрим, в особенности те, кто вносил оплату за просмотр/прослушивание трансляции и активно комментировал происходящее, то они также являются свидетелями преступления и одновременно совершают его попустительство [8, с. 267–268].
Особенности применения специальных знаний по делам данной категории
Безусловно, в зависимости от транслируемой ситуации и транслируемого преступления, по указанной аудио-, видеозаписи может возникнуть необходимость назначения портретной, лингвистической судебных экспертиз, в том числе в отношении комментариев, оставленных пользователями под трансляцией. Что же касается назначения компьютерной судебной экспертизы, то оно может быть обусловлено необходимостью установления устройства, аккаунта, с которых транслировалось преступление. Так, информация, содержащаяся, например, на личной странице пользователя в социальной сети «Вконтакте», содержит виртуальные следы, которые имеют и криминалистическое, и уголовно-процессуальное значение: посещение сайтов, ведение переписки с лицами, регистрация в социальных сетях, публикация запрещенного контента, удаление видеозаписей [9, с. 129–130].
Рассматриваемое явление имеет распространение в неопределенном кругу лиц из числа пользователей сети «Интернет», в связи с чем видится необходимым назначение психологической экспертизы по аудио-, видеозаписи. В рамках экспертного исследования возможна постановка вопроса о степени негативного эмоционального воздействия аудио-, видеозаписи на слушателей/зрителей, об определении психологического состояния лиц – участников треш-стрима» и т. д. [8, с. 268].
Заключение
-
1. Уголовный закон не устанавливает ответственность за треш-стримы, в рамках действующего законодательства произошло ужесточение уголовной ответственности за уже существующие преступления против личности, совершённые особым способом или специальными средствами – с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
-
2. При попытке закрепить ответственность за треш-стримы законодателю не удалось дать должную уголовно-правовую оценку особенностям мотива преступника и участию слушателей/зрителей треш-стрима. При этом нормы о соучастии дают правоприменителю возможность
-
3. Закрепление пункта «д» в ч. 2 ст. 115 УК РФ перевело треш-стримы из категории дел частного обвинения в дела публичного обвинения.
-
4. Полагаем, что в случаях прямой трансляции противоправных действий, предусмотренных ст.ст. 105, 111, 112, 117, 119, 126, 127, 1271, 1272 УК РФ, речь может идти об обстановке совершения преступления, а при трансляции записи – о криминализированном постпреступном поведении. В обоих случаях факультативным объектом будет являться общественная нравственность.
-
5. Необходимо добавить квалифицирующий пункт «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)» в ст.ст. 131–135, 156 УК РФ.
-
6. Влияние цифровых средств коммуникации, в том числе и отрицательное, на общественное настроение и общественное сознание будет только возрастать. Законодательное ограничение интер-нет-контента неизбежно будет вызывать споры о соотношении общественной безопасности, свободы слова и личных прав конкретного индивида.
Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что треш-стриминговые трансляции содержат полный набор криминалистически значимой информации и одновременно пропагандируют среди населения насилие, аморальное поведение, совершение преступлений и административных правонарушений. Законодательное выделение треш-стримов в отдельный состав преступления представляется перспективным еще по нескольким причинам. Так, это увеличит возможность исследования содержания элементов криминалистической характеристики подобных преступлений, а разработка новой методики расследования преступлений, сопровождавшихся ведением треш-стрима, позволит органам предварительного расследования повысить эффективность уголовного судопроизводства по данной категории дел.
привлечь последних в качестве пособников или подстрекателей.
Список литературы Уголовно-правовые, криминологические, криминалистические аспекты публичной демонстрации преступлений против личности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Капитонова Е. А. Пранки, треш-стримы и другие новые формы девиантных действий, совершаемых в погоне за популярностью: проблемы квалификации // Уголовное право. 2024. № 2 (162). С. 24-34. DOI: 10.52390/20715870_2024_2_24
- Фильченко А. П. Охрана общественной нравственности от посягательств в форме прямых трансляций противоправного поведения (треш-стримов) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4. С. 90-100. DOI: 10.24412/2072-9391-2021-460-90-100
- Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002. 237 с.
- Носачёв Г. Н. Социально-психологический анализ агрессии в современной культуре // Российский психиатрический журнал. 2005. № 4. С. 17-19.
- Заварыкин И. Н. Противодействие насилию, распространяемому в сети Интернет посредством трешстримов: криминологический аспект // Алтайский юридический вестник. 2023. № 3 (43). С. 97-102.
- Грачева Ю. В., Маликов С. В. Треш-стрим: социальная обусловленность криминализации // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16, № 6 (127). С. 202-210. DOI: 10.17803/19941471.2021.127.6.202-210
- Куправа Т. М., Красиков В. Д. Треш-стримеры: преступники или бизнесмены? // ExLegis: правовые исследования. 2022. № 1. С. 12-14.
- Косых В. А. "Треш-стримы": криминалистическая характеристика явления // Санкт-Петербургский международный криминалистический форум: материалы междунар. науч.-практ. конф. СПб., 10-11 июня 2024 г. / сост.: А. Р. Акиев, Т. А. Бадзгарадзе. СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2024. С. 265-270.
- Переверзева Е. С., Комов А. В. Механизм следообразования виртуальных следов // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2022. № 1 (93). С. 128-133. DOI: 10.35750/2071-8284-2022-1-128-133