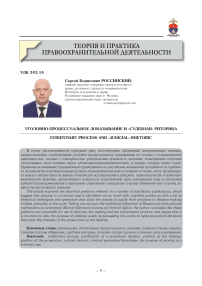Уголовно-процессуальное доказывание и «судебная» риторика
Автор: Россинский С.Б.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются присущие ряду постсоветских публикаций доктринальные позиции, предполагающие олицетворение уголовно-процессуального доказывания не столько с познавательной деятельностью, сколько с совокупностью риторических приемов и операций, позволяющих сторонам обосновывать свои позиции перед субъектами-правоприменителями, в первую очередь перед судом. Принимая во внимание традиционную приверженность российских механизмов досудебного и судебного производства континентальным (романо-германским) канонам уголовной юстиции, автор формулирует вывод о непригодности данных позиций для использования в доктрине, правотворчестве и правоприменительной практике, аргументирует неверность усматривания цели доказывания лишь в склонении субъекта-правоприменителя к вынесению отвечающего интересам стороны обвинения или стороны защиты процессуального решения.
Доказывание, обоснование процессуального решения, позиция стороны защиты, позиция стороны обвинения, судебная риторика, уголовно-процессуальное познание, цель доказывания
Короткий адрес: https://sciup.org/140312401
IDR: 140312401 | УДК: 343.14
Текст научной статьи Уголовно-процессуальное доказывание и «судебная» риторика
С реди множества самых разнообразных вопросов, присущих феномену уголовной юстиции в целом и его отражению в динамично развивающихся институциональных основах национальной правовой системы в частности, особой актуальностью традиционно отличались и продолжают отличаться проблемы и шероховатости теории и методологии, законодательного регулирования и практики доказывания – известной деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры, суда, других участников уголовного судопроизводства, направленной на установление имеющих значение для уголовных дел обстоятельств и обоснование соответствующих правоприменительных актов. И в этом нет ничего удивительного – ввиду понятных причин доказывание заметно отличается от иных объектов уголовно-процессуального регулирования; особыми видятся и подходы к разрешению соответствующих проблем.
Ведь, с одной стороны, доказывание предполагает очень широкую сферу применения, неразрывно связано с подавляющим большинством уголовно-процессуальных правоотношений, с реализацией их участниками предоставленных законом государственно-властных полномочий, использованием имеющихся прав, исполнением обязанностей, с проведением различных уголовно-процессуальных действий, принятием уголовно-процессуальных решений, осуществлением иных процессуально-поведенческих приемов. Именно потребностью в доказывании обуславливается сложный, полистадий-ный, достаточно длительный, включающий множество субъектов и процедур порядок производства по любому, пусть даже самому «мелкому» и неприметному уголовному делу. В противном случае – ввиду отказа от удовлетворения данной потребности, вызванного, например, появлением у судей паранормальных способностей к изначальной осведомленности обо всех обстоятельствах и деталях случившегося, уголовный процесс свелся бы лишь к постановлению приговоров либо вынесению иных правоприменительных актов. Поэтому в научных публикациях неоднократно заявлялось о тесном перепле- тении положений доказательственного права с предназначением, задачами, принципами, иными базовыми постулатами уголовного судопроизводства, об их прямом или, по крайней мере, косвенном отражении в условиях и порядке проведения практически всех установленных уголовно-процессуальным законом приемов и процедур [7, с. 4; 17, с. 5 и др.]. А само доказывание нередко называлось «стержнем», «сердцевиной» всего производства по уголовному делу [11, с. 122; 14, с. 41] и даже более сентиментально – «душой» уголовного процесса [19, с. 12].
С другой стороны, механизмы доказывания изначально предопределены имеющими природное происхождение, то есть как бы полученными человечеством «свыше» способностями к когниции и мыслительной деятельности, к восприятию и умственной генерации различных сведений. Они обусловлены естественнонаучными закономерностями, постулатами гносеологии и формальной логики, определяющими сущность познания различных обстоятельств и обоснования соответствующих решений. К тому же до настоящего времени ни философам, ни специалистам-«естественникам» (психологам, психофизиологам, нейропсихологам и др.) так и не удалось полностью разгадать основные загадки работы человеческого мозга, раскрыть все тайны, присущие приемам восприятия окружающей реальности и умственной обработки улавливаемых сведений – на сегодняшний день лежащие в их основе когнитивные и аналитические процессы остаются не до конца изученными, непонятыми, вызывающими целый ряд безответных вопросов. В частности, ученым пока еще не посчастливилось выявить и четко распознать подлинную природу преобразования допсихических сенсорных процессов в процессы восприятия, то есть декодирования нервных импульсов, возникающих в ходе функционирования сенсорной системы (органов чувств) человека, а затем передаваемых в кору головного мозга и вызывающих формирование соответствующих мысленных образов. Ответить на многие возникающие в этой связи вопросы можно лишь в форме гипотез, подразумевающих доста- точно высокую степень вероятности [подр.: 15, с. 356].
И таким образом, лежащие в основе уголовно-процессуального доказывания когнитивные и аналитические приемы вообще малопригодны к юридической формализации, то есть к некоему облачению в уголовно-процессуальную форму. Они явно не предрасположены к четкой правовой регламентации посредством «искусственных» (создаваемых самими людьми) положений уголовно-процессуального законодательства, нередко представляющих результаты политических, экономических, социальных компромиссов и разрабатываемых посредством сложных правотворческих процедур и технологий.
В связи с этим научные, нормативные и даже практические подходы к механизмам уголовно-процессуального доказывания уже изначально обременены множеством лакун, противоречий и шероховатостей. А в современных условиях существования и развития российской государственности, предполагающих постоянный поиск особого, национального концепта уголовной юстиции, включая правотворческие метания и постоянные корректировки уголовно-процессуального закона, эти лакуны, противоречия, шероховатости становятся еще заметнее, приобретают гораздо большую остроту и актуальность. Несмотря на пристальное внимание ученых, невзирая на множество исследований и предопределенных их результатами публикаций, практически ни один так или иначе связанный с феноменом уголовно-процессуального доказывания вопрос нельзя признать окончательно «закрытым», а обусловленные им дальнейшие научные поиски – бессмысленными. Подходы к разрешению подавляющего большинства существующих проблем по-прежнему не предполагают какого-либо единства и лишь приводят к новым и новым раундам дискуссий и полемических обсуждений.
На сегодняшний день даже не наблюдается более или менее единодушного доктринального подхода к самой сущности уголовно-процессуального доказывания и его роли в решении стоящих перед уголовной юстицией задач. Вместо этого высказываются совершен- но разные, в том числе прямо противоположные, как бы антитетичные по отношению друг к другу позиции. Причем наиболее известные и распространенные из них основаны на так называемом когнитивном подходе – под доказыванием понимается особая, подлежащая использованию для нужд уголовного судопроизводства разновидность когнитивной (вариативно – когнитивно-удостоверительной) деятельности должностных лиц органов предварительного расследования, прокуроров, судей, присяжных заседателей, реже – других участников уголовно-процессуальных правоотношений, то есть специфическая разновидность познания (познания-удостоверения) людьми определенных фрагментов окружающей реальности [1, с. 81; 13, с. 21; 18, с. 6 и мн. др.]. Одновременно предлагаются критерии для отграничения доказывания от научного познания, бытового познания, иных областей применения людьми своих когнитивных способностей.
Вместе с тем в последние годы заметно усилились принципиально другие взгляды. Доказывание все чаще начало ассоциироваться не столько с разновидностью познания (познания-удостоверения), сколько с «судебной» риторикой, выраженной в процессуальных формах обоснования позиций сторон.
Так, в целом ряде публикаций под ним (доказыванием) понимается деятельность государственных обвинителей, защитников, обвиняемых (подозреваемых), их законных представителей, потерпевших (частных обвинителей), гражданских истцов, ответчиков, их представителей, состоящая в совокупности риторических приемов и операций, в подборе и надлежащем доведении до субъектов-правоприменителей, в первую очередь до суда, веских логических доводов, направленных на аргументацию правильности собственных тезисов и ошибочности «контртезисов» процессуальных оппонентов. Таким образом, подразумевается, что доказать какое-либо обстоятельство – значит убедить «сомневающегося» правоприменителя в его подлинности, заставить поверить в его существование, в неопровержимость подтверждающих его доводов и аргументов. И в связи с этим проводится четкое размежевание познания и доказывания в зависимости от функциональной принадлежности соответствующих участников уголовного судопроизводства, то есть выполнения разных процессуальных функций: субъектами познания признаются суды (вариативно – должностные лица органов предварительного расследования), тогда как субъектами доказывания (читай, «судебной» риторики) – различные участники со стороны обвинения и стороны защиты.
В принципе сами по себе идеи о доказывании как об обосновании позиций сторон начали высказываться достаточно давно – в советский период развития процессуального права. В частности, крупный ученый-цивилист А.Ф. Клейнман еще в 1950 г. предложил полностью освободить суд от бремени доказывания с возложением соответствующих процессуальных обязанностей исключительно на стороны. «Суд не доказывает, он решает» – постулировал автор, опровергая тем самым потребность в признании суда субъектом доказывания и усматривая его процессуальную роль лишь в надлежащем разрешении (!) правовых споров и конфликтов [8, с. 40]. Позднее этот подход нашел отражение в известной и достаточно знаковой для ученых-процессуалистов монографии С.В. Курылева «Основы теории доказывания в советском правосудии». Автор выразил его посредством меткого доктринального афоризма: «Доказывание – не познание, оно – для познания» [10, с. 33-35]. Осуществляя свои изыскания на стыке уголовно-процессуального и гражданского процессуального права, ученый тоже включил познавательную деятельность в компетенцию суда, тогда как доказывание отождествил исключительно с функциями сторон. Более того, саму потребность в доказывании он закономерно связал лишь с определенной «конфликтностью» возникающих по уголовным или гражданским делам ситуаций – с оспариваниями представителями одной стороны позиций, излагаемых представителями другой. Практически в то же время данная точка зрения нашла отражение в публикациях еще одного крупного ученого-цивилиста – Л.А. Ванеевой. Доказы- вание было признано деятельностью сторон и прочих участников судебных заседаний, направленной на аргументацию правомерности и справедливости либо, наоборот, ошибочности и несостоятельности заявленных претензий, тогда как познание – лишь формой восприятия судом имеющих значение для соответствующего дела обстоятельств [4, с. 43]. К слову, весьма примечательно, что в науке гражданского процесса подобные взгляды вообще укоренились значительно глубже. По крайней мере, схожие позиции высказывались и рядом других ученых-цивилистов. Причем авторы известного «Курса доказательственного права» даже оценили доказывание и познание в качестве «исконно гетерогенных категорий» [9, с. 107].
Вместе с тем «бенефис» подобного подхода к пониманию уголовно-процессуального доказывания все же начался после принятия в 2001 г. УПК РФ, официально закрепившего пресловутую состязательность англосаксонского типа, с четким разграничением «функциональных» субъектов уголовного судопроизводства на суд, участников со стороны обвинения и участников со стороны защиты. Например, таких взглядов на протяжении ряда лет планомерно придерживается Ю.П. Боруленков – ассоциирует смыслы юридического познания и доказывания с разными процессуальными функциями и предопределенными ими специфическими интересами: познание олицетворяет с работой суда, а доказывание – со стремлениями сторон к аргументации высказываемых утверждений [2, с. 220-221; 3, с. 372]. Эту же точку зрения в последние годы жизни активно отстаивал пишущий на русском языке известный латвийский ученый Р.Г. Домбровский [5, с. 39]. Правда, ранее, до распада Советского Союза, он придерживался несколько иных, не столь прозападных взглядов [6, с. 21]. Схожие позиции также встречаются в публикациях ряда других современных ученых [12, с. 155; 16, с. 14-15 и др.].
И в связи с этим закономерно возникает вопрос о возможности использования данного, как бы альтернативного подхода, то есть о приемлемости отождествления уголов- но-процессуального доказывания исключительно с «судебной» риторикой в доктрине, правотворчестве и правоприменительной практике. Причем актуальность данного вопроса становится еще более заметной на фоне явных изъянов упомянутого выше когнитивного подхода – невозможности его признания универсальным, всеобъемлющим, охватывающим все без исключения компоненты уголовно-процессуального доказывания.
Но, увы! Ответить на такой вопрос можно только отрицательно! Взгляды на уголовно-процессуальное доказывание как на «судебную» риторику, как на совокупность осуществляемых сторонами риторических приемов и операций представляются далеко не бесспорными. Они видятся совсем не такими уж безукоризненными, каковыми, по всей вероятности, казались и продолжают казаться ряду специалистов в области гражданского судопроизводства и некоторым коллегам по уголовно-процессуальному «цеху».
Более того, из всех известных доктринальных подходов к пониманию уголовно-процессуального доказывания этот подход вообще представляется наименее удачным! Ввиду явной чужеродности национальным традициям правосудия он вообще плохо согласуется с еще сохраняющей приверженность континентальным (романо-германским) канонам общей парадигмой уголовного судопроизводства, во многом противоречит устоявшимся положениям уголовно-процессуального закона, а особенно вытекающим из таких положений практическим алгоритмам и рекомендациям. По этим же причинам он не соответствует «народным», то есть исторически сложившимся у населения представлениям о роли и предназначении уголовной юстиции – плохо гармонизирован со все еще бытующим (так никуда и не девшимся) обывательским желанием видеть в судьях, прокурорах, следователях, дознавателях дотошных и кропотливых «устанавли-вателей» истины, сермяжной правды, то есть «выяснятелей» всех обстоятельств и деталей преступлений с одновременным возложением на них полноты ответственности за судьбы рядовых граждан, в своей массе не очень-то способных к самостоятельному участию в со- стязательных процессах, не располагающих средствами для приглашения компетентных и опытных юристов. И это не удивительно – как отмечалось выше, распространение подобных точек зрения было обусловлено некогда «нашумевшей» англосаксонской концепцией состязательности уголовного судопроизводства, подразумевающей гораздо меньшую, по крайней мере по сравнению с российскими механизмами, активность «юстиции», в первую очередь судебной власти, в установлении значимых для уголовного дела обстоятельств и одновременное переложение соответствующей «нагрузки» на стороны.
Такие позиции намного лучше предрасположены к использованию в цивилистических процессах, основанных на гораздо большей наступательности и активности сторон для обоснования либо опровержения исковых и тому подобных требований. По всей вероятности, именно с этим и было связано и более раннее возникновение и более глубокая укорененность данных воззрений в публикациях гражданско-процессуальной и арбитражно-процессуальной направленности. К слову, и автор афоризма «Доказывание – не познание, оно – для познания» – профессор С.В. Курылев – вообще-то считал себя ученым-цивилистом. Невзирая на неоценимое значение некогда высказанных им идей для развития теории уголовно-процессуального доказывания, его изыскания все же преимущественно посвящались более «мирным» формам реализации судебной власти.
Но даже в части рассмотрения гражданских и арбитражных дел, равно как и в части практического воплощения англосаксонской уголовно-процессуальной доктрины, подобные суждения о доказывании и его соотношении с познанием все равно представляются достаточно спорными, не учитывающими ни ретроспективности большинства подлежащих установлению обстоятельств, ни судейских потребностей в надлежащем осмыслении их мысленных образов. А для национальной концепции публичного уголовного судопроизводства, где суд – нечто большее чем просто суд, а «номинально» равноправные перед ним (судом) стороны в реальности распола- гают далеко не одинаковыми возможностями по собиранию и представлению доказательственного материала, говорить о справедливости и потенциальной жизнеспособности данных научных позиций вообще не приходится – они видятся абсолютно неприемлемыми, противоречащими самой природе современной уголовной юстиции.
Представляется, что доказывание нельзя сводить к одной лишь «судебной» риторике, то есть совокупности риторических приемов и операций обвинителей, защитников, обвиняемым (подсудимых) иных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения или стороны защиты, нельзя ограничивать одним лишь подбором и надлежащим доведением до субъектов-правоприменителей веских доводов, аргументов, силлогистических посылок, способствующих формированию их усмотрений в условиях состязательности. И таким образом, доказывание неверно признавать исключительно формой убеждения в правильности одних позиций и ошибочности других, а его цель видеть не более чем в склонении суда к вынесению отвечающего интересам обвинения либо или защиты, подчас и просто выгодного кому-либо из участвующих лиц решения.
Несмотря на мнимую эстетику, на схожесть с сюжетами известных голливудских шедевров, продуктов современной отечественной киноиндустрии и тому подобных экранных сказок про красноречивые выступления адвокатов в судебных заседаниях, подобное понимание доказывания мало соответствует реальным потребностям правоприменительной практики. Ведь, не будучи предрасположенными к собственной ког-ниции подлежащих установлению обстоятельств, государственные либо частные обвинители, защитники, обвиняемые, другие воплотители сторон обвинения и защиты попросту не имели бы возможности надлежаще подготовиться к участию в судебных диспутах, не располагали бы должными гносеологическими ресурсами ни для формирования требуемых аргументов, доводов, логических посылок, ни для определения тактики их использования. Уголовно-процессуальное до- казывание в этом случае превратилось бы в бессмысленную череду никак не связанных со своим собственным предметом риторических маневров, а деятельность сторон – в пустое «сотрясание воздуха», в спор ради спора.
Любые пригодные к использованию для нужд уголовного судопроизвсова аргументы, доводы, силлогистические посылки не способны возникать из ниоткуда, появляться «из воздуха». Возникновение всех этих формально-логических ресурсов всегда надлежит связывать с результатами предшествующей познавательной деятельности их «создателей», сводящейся к собственному установлению данными лицами обстоятельств случившегося и направленной на «приватное» уразумение и «приватную» оценку произошедшего, а также на осознание перспектив и определение конкретных средств обоснования соответствующих правоприменительных актов. Более того, сказанное нельзя относить лишь к механизмам участия в уголовных делах воплотителей сторон обвинения и защиты. Подобные закономерности наблюдаются в работе любых субъектов доказывания независимо от выполняемой процессуальной роли. Каждому из них – и дознавателю, и следователю, и прокурору, и суду, и обвиняемому, и защитнику, и потерпевшему, и т.д. – свойственны как познавательные (познавательно-удостоверительные) приемы, так и аргументационно-логические операции.
В связи с этим наиболее приемлемым для использования в доктрине, правотворчестве и правоприменительной практике представляется еще один известный, так называемый интегративный подход, предполагающий комплексный характер, то есть включение в содержание уголовно-процессуального доказывания и познавательных (познавательно-удостоверительных), и аргументационно-логических, в том числе риторических, компонентов. А умелое внедрение данного подхода в правовую материю сможет поспособствовать сглаживанию ряда присущих современной уголовной юстиции проблем и противоречий. Рассмотрению этих вопросов автор настоящей статьи автор намерен посвятить свои дальнейшие публикации.