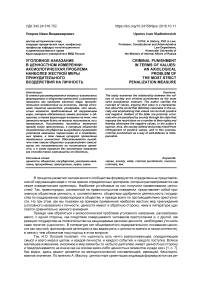Уголовное наказание в ценностном измерении: аксиологическая проблема наиболее жесткой меры принудительного воздействия на личность
Автор: Упоров Иван Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи формируемых в обществе ценностей и уголовного наказания как наиболее жесткой меры принудительного воздействия на личность. Автор уточняет понятие ценностей, утверждая, что ценностью является представление об окружающем мире, которое обязательно имеет резонанс в обществе, а также акцентируя внимание на том, что ценности могут быть не только позитивные, но и негативные. Носителями последних являются прежде всего преступники, к которым общество посредством государства вынужденно применяет уголовное наказание, ограничивая их в определенных правах, и тем самым купирует проявление негативных ценностей. Обосновывается вывод, что тем самым общество осуществляет самозащиту от посягательств на позитивные ценности, и в этом процессе без уголовного наказания как способа такой самозащиты не обойтись.
Ценности, общество, государство, уголовное наказание, принуждение, преступники, право, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/149132693
IDR: 149132693 | УДК: 343.24:316.752 | DOI: 10.24158/tipor.2018.10.11
Текст научной статьи Уголовное наказание в ценностном измерении: аксиологическая проблема наиболее жесткой меры принудительного воздействия на личность
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
В процессе развития человеческого сообщества формируются определенные представления об окружающем мире с точки зрения определенных критериев, которые рассматриваются как некие поведенческие ориентиры. Наиболее устойчивые из них получили наименование ценностей . Так, правопорядок, основанный на правопослушном поведении, представляет собой признанную обществом ценность, и, соответственно, обществом одобряется деятельность государства по поддержанию правопорядка в обществе, и прежде всего по противодействию преступности. Но при этом, как мы покажем на примере применения наиболее жестких мер принуждения (уголовного наказания) к личности, ценности имеют и обратную сторону, чему в литературе уделяется сравнительно немного внимания.
Прежде чем обратиться к аксиологической проблеме уголовного наказания, рассматриваемого, с одной стороны, как следствие совершаемого человеком преступления и, с другой, как реакция государства на посягательство на защищаемые законом ценности, необходимо уточнить само понятие «ценности». В литературе нет общепринятого содержательного понимания ценности как научной, философской категории (а мы ведем речь о ценности именно в таком контексте), в связи с чем обозначим наш подход в этом вопросе.
Так, Н.О. Лосский полагает, что «ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка. Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то ни было деятелем, имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на основе каких-либо ценностных моментов и ради них» [1, с. 7]. Как видно, здесь акцент делается на методологической составляющей, имеющей, бесспорно, важное значение. По мнению А. Маслоу, ценностные ориентации индивида формируются как ре- зультат осознания им самого себя в окружающем мире, понимания окружающей действительности, и прежде всего социальной жизни и природной среды [2, с. 209]. В данном случае показывается решающая роль индивида в ценностных иерархиях. Ю.Б. Смирнов считает, что «современный период отличается широким плюрализмом понимания природы и сущности ценностей, которые рассматриваются и как благо, и как значимость, и как чувственные переживания, и как отношения, и как сущности, и как социокультурные универсалии эпохи, что свидетельствует о продолжении развития этого понятия в современную эпоху» [3, с. 14]. При этом предлагается следующая дефиниция ценности: «универсальные нормы, вызывающие чувство почитания, обязательства, послушания, обладающие сверхзначимостью для всех членов общества» [4, с. 15].
Детально изучавший данную категорию О.М. Панфилов пишет, что под ценностью следует понимать «особый социокультурный феномен, существующий в трех основных формах: в виде субъективных ценностей (осознание человеком смысла и предназначения своего бытия), объективных ценностей (регуляторы поведения людей) и общественной системы ценностей» [5, с. 26]. Как нам представляется, здесь вторая и третья формы, по сути, являются разновидностями объективных ценностей, другое дело, что одни из них представлены в виде формальных актов (законов), а другие остаются в общественном сознании.
Приведем еще точку зрения И.А. Беляева, суть которой состоит в том, что «применительно к конкретному человеку ценностью может выступить любое явление, как реально существующее, так и гипотетическое, которое, приобретая для него интимно-личностный смысл, в определенных общественно-исторических условиях оказывается ориентиром его жизни» [6, с. 11]. С этим трудно полностью согласиться, поскольку создается впечатление, что ценность может быть сформирована отдельным человеком применительно к самому себе в единичном варианте. Однако при этом упускается из виду, что человек не может формировать свою позицию без учета уже действующих в обществе ценностей (В.И. Ленин: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя») и, по сути дела, человек лишь выбирает уже имеющиеся и сложившиеся до него ценности, индивидуально их истолковывая с учетом особенностей переживаемого исторического времени.
В целом в литературе наблюдается много подходов к пониманию ценности, и сама эта категория, как справедливо отмечает Л.В. Баева, не имеет однозначно доминирующего понимания [7, с. 63]. Вместе с тем, на наш взгляд, в рассматриваемом контексте представляется бесспорной позиция о том, что ценностью может быть только такое представление об окружающем мире, которое имеет определенный резонанс в обществе, т. е. если общество получило определенный импульс-мысль о чем-либо (в виде устных высказываний, статей, книг, фильмов и т. д.), «переварило» эту информацию в течение некоторого времени своего бытия, возможно в течение нескольких поколений, и сохранило в общественном пространстве (прежде всего в общественном сознании) как некую константу. При этом, что немаловажно, масштаб ценностей может быть самым различным – ранее приводился пример ценности в виде правопослушного поведения, и эта ценность имеет максимально большой масштаб, поскольку распространяется на территории всей страны и относится едва ли не ко всему населению, а, например, такая ценность, как fair play (представление о благородстве и справедливости в спорте), относится лишь к участникам спортивных соревнований.
При этом, как показывает изученная нами литература, абсолютное большинство авторов, затрагивающих проблему ценностей, имеют в виду позитивную коннотацию, т. е. ценности представляются не просто как поведенческий ориентир, а ориентир со знаком плюс, одобряемый обществом, которого следует придерживаться и который позволяет характеризовать действия того или иного человека с точки зрения общепринятой морали. Например, Н.Н. Равочкин раскрывает такие ценности правового государства, как «разумность власти, закона и равноправие всех субъектов социальных и политико-правовых институтов, а также ценность гражданской свободы. Другой аспект аксиологического анализа этих идей – самостоятельная ценность гражданского общества, ориентированного на человека, признающего его права и свободы и позволяющего каждому индивиду полноценно формироваться в соответствии с собственными интенциями и потенциями» [8, с. 47]. С этим нельзя не согласиться. Однако такие ценности нуждаются в защите от преступных посягательств, а это означает, что имеются носители иных ценностей, т. е. ценности могут быть не только позитивные, но и негативные, со знаком минус – в зависимости от того, от кого они исходят и кто их оценивает.
Этот аспект затрагивается в немногих работах. Так, американский теолог Р. Нибур отмечает, что «ценность налична там и тогда, где и когда одно реальное существо с его потенциальными возможностями противостоит другому существу, его ограничивающему, завершающему и дополняющему. Таким образом, ценность прежде всего объективно предстает для наблюдателя в соответствии или несоответствии одного существа другому. В первом случае это положительная ценность, во втором – отрицательная» [9, с. 324]. Это очень важное положение, показывающее, что ценности формируются не иначе как на определенном противопоставлении. Возьмем тот же пример: правопослушное поведение (правопорядок) является ценностью для абсолютного большин- ства членов общества - но не для всех: для части из них ценностью является осознанное противозаконное поведение (получение доходов посредством мошенничества, коррупции, насильственное удовлетворение своих извращенных потребностей и т. д.). Во взаимодействии этих двух противоположностей общество делает все необходимое (через правоохранительные органы), чтобы возобладала первая ценность, что, собственно, и происходит. В этом же контексте А.А. Ивин, рассуждая о ценностях, указывает следующее: «Имеется несколько типов рационального выбора, и устойчивое мнение, будто рациональный выбор - это выбор, всегда дающий лучшую из имеющихся альтернатив, не может быть распространено на все виды предпочтений человека и тех выборов, которые осуществляются им на основе предпочтений» [10, с. 4].
В этом смысле также представляет интерес мысль Ю.А. Демидова о том, что «охраняемый законом объект и направленное против него деяние противоположны в ценностном отношении. Объект - ценность. Преступное деяние - антиценность. Объект оценивается законом положительно, преступное деяние оценивается отрицательно. Объект уголовно-правовой охраны - это важнейшие классовые ценности, ради охраны которых создается уголовное право с его подчас жестокими репрессиями, свидетельствующими о том, что господствующий класс с их помощью защищает условия своего существования...» [11, с. 38]. И хотя здесь заметно влияние классового подхода (работа опубликована в 1977 г.), следует согласиться с тем, что для защиты позитивных ценностей могут применяться «жестокие репрессии» со стороны государства, которое формирует уголовное право в виде законов и определяет процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности и ее реализации. Уголовное наказание как раз и предполагает самые жесткие меры государственного принуждения, применяемые к лицам, которые свои негативные ценности (имеющие преступный и крайне выраженный характер) противопоставляют позитивным. Таким образом, уголовное наказание обозначает определенный рубеж, по которому проходит граница между позитивными и негативными ценностями и по достижении которого государство проявляет активную деятельность по защите позитивных ценностей в ответ на активность носителей негативных ценностей (в нашем случае - преступников) в конкретных ситуациях при соответствующих посягательствах. При этом негативные ценности потому и именуются негативными, что они не являются доминирующими. Будучи в меньшинстве, негативные ценности осуждаются обществом, которое предписывает государству применять меры принуждения к преступникам.
Согласно действующему российскому уголовному законодательству, наиболее жесткое уголовное наказание заключается в смертной казни (ст. 59 УК РФ), которая может назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Однако этот вид наказания не применяется с 1996 г., когда Россия, вступив в Совет Европы, обязалась отменить смертную казнь и до принятия такого решения ввела мораторий на ее применение (обязательство по законодательной отмене смертной казни до сих пор не выполнено). Указанные обстоятельства вместе с тем не нарушают логики наших рассуждений. Следующее по строгости уголовное наказание заключается в лишении свободы (имеется несколько его видов согласно ст. 55-57 УК РФ), и эта мера уголовно-правового воздействия действует реально: в настоящее время (на 1 июля 2018 г.) в России в местах лишения свободы отбывают такое наказание 486 383 осужденных [12]. С учетом того что смертная казнь не применяется, лишение свободы в настоящее время является наиболее жесткой мерой государственного принуждения, предусматривающей существенные и, что принципиально важно, правомерные лишение и ограничение ряда прав и свобод принудительно водворенных за колючую проволоку преступников. Прежде всего это фактическое отсутствие свободы передвижения, невозможность использования по желанию своих трудовых способностей, ограничения в общении с родственниками и другими лицами, в пользовании достижениями культуры и т. д.
В целом после распада СССР численность осужденных к лишению свободы сокращается. Вместе с тем абсолютное количество заключенных в России еще значительно, и в пересчете на все население страны доля лишенных свободы остается одной из самых высоких в мире. Кроме того, с 2012 г. наблюдается тревожная тенденция, которая заключается в том, что растет количество следственно-арестованных, в СИЗО повсеместно имеет место переполнение (25 % по стране, 40 % по Москве) [13], а это означает, что уменьшения числа осужденных к лишению свободы в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать. Наконец, учтем, что в общей сложности, с учетом уже ранее освободившихся из мест лишения свободы, почти четверть ныне здравствующего мужского населения России прошла «тюремную школу» (т. е. около 15 млн мужчин [14]). И это без учета осужденных к иным мерам уголовных наказаний (штраф, принудительные работы и др.), а также привлеченных к административной ответственности.
Приведенные данные показывают, что носителей негативных ценностей не так мало, как может показаться (сюда можно добавить значительное число лиц, готовых, будучи на воле, при подходящей криминогенной ситуации совершить, например, банальную кражу или уже совершивших таковую, но не попавших в поле зрения правоохранителей). С помощью уголовного наказания, как мы отмечали, общество купирует негативные ценности, обусловливающие желание индивидов, придерживающихся этих ценностей, совершать преступления, т. е. виновные общественно опасные деяния, посягающие в конечном итоге на общественный правопорядок. Но здесь возникает вопрос: как расценивать в контексте ценностных отношений само уголовное наказание? Дело в том, что тот же общественный правопорядок как ценность предполагает в качестве составной части уголовное право, нормами которого осуществляется защита этой ценности (правопорядка), и, следовательно, уголовное право также есть основания полагать позитивной ценностью, но меньшего масштаба (по сравнению с правопорядком). В свою очередь, одним из институтов уголовного права является институт уголовного наказания. Продолжая логическую цепочку, можно говорить о том, что и уголовное наказание является позитивной ценностью. Но, применяя эту меру государственного принуждения, государство, как указывалось, лишает и ограничивает личность в некоторых правах и свободах, которые, согласно ст. 2 Конституции России, являются ««высшей ценностью».
Возникает определенное противоречие, когда государство ради одних позитивных ценностей во имя общественных интересов подавляет реализацию иных позитивных ценностей у определенных лиц (преступников), в то время как полномочия государства должны быть направлены на развитие позитивных ценностей в силу своего статуса в обществе. Как нам представляется, указанное противоречие может быть снято следующим образом. Преступники являются носителями не только негативных, но и позитивных ценностей, даже против своей воли, - только лишь по принадлежности к роду человеческому, представители которого по факту рождения становятся обладателями таких естественных прав, как право на жизнь, достоинство личности и др. Однако по некоторым причинам (мы их не рассматриваем) эти люди вмещают в свое поведение действия, расцениваемые как преступления, нарушающие реализацию признанных ценностей правопослушными гражданами. И в этом контексте применение уголовного наказания следует рассматривать не с позиции «хо-рошо/плохо», а с позиции «для чего, с какой целью». Т. е. уголовное наказание нужно рассматривать как своеобразное средство-противоядие против ценностей преступного мира, поскольку преступный мир нарушает спокойствие и размеренную жизнь общества по правилам, установленным самим обществом, приносит горе и страдание потерпевшим от преступлений. И к настоящему времени человеческое сообщество не может обойтись без такого способа обезопасить себя от преступников, как применение к ним уголовного наказания, изолируя наиболее опасных в местах лишения свободы или даже лишая жизни (в странах, где применяется смертная казнь).
Безусловно, применение уголовного наказания как наиболее жесткой меры государственного принуждения - это вынужденная мера, и применять ее вынуждают сами преступники. При этом подавление в местах лишения свободы позитивных ценностей, которыми обладают преступники, является неизбежным злом, вытекающим из условий их изоляции от правопослушных граждан. Общество это осознает, о чем свидетельствует тенденция непрерывного смягчения уголовных наказаний в течение последних веков. Так, в Московской Руси преступников публично четвертовали, сажали на кол, сжигали; на каторге и в тюрьмах их содержали в ужасных условиях, подвергали битью кнутом и розгами. Затем, со времен Екатерины II, не чуждой европейским ценностям, уголовное наказание получило гуманную составляющую, и к концу времени существования империи уже были отменены телесные наказания, а органам, ведающим тюрьмами, предписывалось исправлять арестантов и относиться к ним «человеколюбиво». В Советском государстве концепция исправления и перевоспитания преступников получила свое развитие (и формально действовала даже в условиях ГУЛАГа), но государство четко определяло, что уголовное наказание - это прежде всего кара (возмездие) за содеянное, и уже потом наказание должно было иметь цель исправления и перевоспитания осужденного. В действующем УК РФ (принят в 1996 г.) ссылки на кару нет, а целью уголовного наказания определены восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). Такой подход законодателя (нейтральное отношение к вопросу о карательной составляющей наказания) активно обсуждается в научно-правовой литературе, и консенсуса пока не наблюдается.
В целом мировое пенитенциарное сообщество с конца XVIII в. (усилиями известного английского филантропа Д. Говарда и его последователей) пытается найти такое содержание уголовного наказания в виде лишения свободы и такие условия его реализации, чтобы и общество было удовлетворено, и преступники могли вернуться в это же общество после отбытия наказания в качестве законопослушных граждан. В конце Хх в. в Европе было активным движение за минимизацию тюремного заключения, за расширенное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, поскольку уже доказано, что пребывание в местах лишения свободы наносит осужденному необратимое психологическое и психическое воздействие. Некоторый период (1990-е гг.) в России, взявшей вектор европейского развития, так же много внимания уделялось этому направлению. Даже наблюдался определенный перекос, когда, например, «защите прав лица, совершившего преступление, уделяется куда более пристальное внимание, чем защите прав потерпевшего. Довольно часто потерпевшие остаются недовольны видом и размером уголовного наказания, а также тем, каким образом им компенсируется вред, причиненный преступлением» [15]. В настоящее время такого перекоса нет, и, более того, вносимые в уголовный закон изменения показывают, что они направлены в абсолютном своем большинстве на ужесточение действующих санкций и введение новых составов преступлений. Похоже, что маятник качнулся в другую сторону, а это означает, на наш взгляд, исчерпание гуманистической составляющей уголовного наказания, поскольку следующий ее уровень – всепрощение. Невозможно представить ситуацию, чтобы совершение общественно опасных деяний целенаправленно оставалось без негативных последствий для преступников.
Не будем забывать также, что преступность имманентно присуща человеческому сообществу. На это указывали и ученые позапрошлого века (например, в 1890 г. об этом писал французский социолог и философ Э. Дюркгейм [16, p. 65–95]), и современные криминологи (в частности, российский правовед Ю.М. Антонян [17, с. 3–6]). Такова природа самого человека как представителя животного мира (хотя и самого разумного), изменить которую не представляется возможным в силу объективного характера появления и развития Homo sapiens. А значит, без преступности и без преступников не обойтись, равно как без применения уголовных наказаний, посредством которого общество вынуждено защищать им же сформированные позитивные ценности.
При этом мы не можем согласиться с точкой зрения, что в случае допущения верным тезиса о вечности преступности, во многом теряется смысл с ней бороться [18, с. 38]. Если (гипотетически) с преступностью не бороться, то в результате действия разрушительных преступных акций может наступить хаос с непредсказуемыми последствиями. Но общество, как совокупность личностей, представляет собой живой социальный организм, которому также имманентно присущ инстинкт самосохранения, и поэтому борьба с преступностью неизбежна, что мы и наблюдаем в течение всей истории человечества, и в этой борьбе институт уголовного наказания занимает важнейшее место. Другое дело, что методы борьбы с преступностью должны совершенствоваться – с тем, чтобы не допускать такого баланса позитивных и негативных ценностей, который неприемлем для нормального функционирования общества. В этом контексте, поскольку уголовное наказание как способ защиты позитивных ценностей, очевидно, будет сопровождать человечество весь срок его существования, обществу придется смириться с тем, что ради высших ценностей государству следует выполнять и «грязную» социальную работу, а именно принудительно подавлять негативные ценности, обрекая их носителей (преступников) на определенные ограничения прав и свобод.
Ссылки:
Список литературы Уголовное наказание в ценностном измерении: аксиологическая проблема наиболее жесткой меры принудительного воздействия на личность
- Лосский Н.О. Ценность и бытие: Бог и Царство Божие как основа ценностей. М., 2000. 860 с.
- Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2003. 351 с.
- Смирнов Ю.Б. Эволюция и особенности ценностно-нормативных ориентаций западно-европейской и российской ментальности: дис. … канд. филос. наук. М., 1995. 135 с.
- Панфилов О.М. Ценностные отношения: природа и генезис: дис. … д-ра филос. наук. СПб., 1995. 358 с.
- Беляев И.А. Ценностное содержание целостного мироотношения // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 2. С. 9-13.
- Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории: монография. Астрахань, 2004. 275 с.
- Равочкин Н.Н. Аксиологическая характеристика гражданского общества // Общество: философия, история, культура. 2017. № 12. С. 45-47.
- DOI: 10.24158/fik.2017.12.10
- Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура / сост. Л.С. Гуревич, С.Я. Левит; пер. И.И. Маханькова, И.А. Лейтис. М., 1996. 576 с.
- Ивин А.А. Человеческие предпочтения. М., 2010. 128 с.
- Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1977. 414 с.
- По данным официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний (http://fsin.su/).
- Ширижик Л. Судебное участие [Электронный ресурс] // Лента.Ру. 2016. 12 дек. URL: http://lenta.ru/articles/2016/12/07/statistika/ (дата обращения: 25.08.2018).
- Радченко В. Хорошо сидим [Электронный ресурс] // Российская газета. 2008. 2 сент. URL: https://rg.ru/2008/09/02/radchenko.html (дата обращения: 25.08.2018).
- Филимонова И.В., Зухов Х.А. Принципы уголовного права: аксиологический аспект [Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2. URL: http://human.snauka.ru/2017/02/21035 (дата обращения: 07.08.2018).
- Durkheim É. Deux lois de l'évolution pénale // Année sociologique. 1899-1900. Vol. IV. P. 65-95.
- Антонян Ю.М. Понятие преступности, ее вечность // Преступность и общество: сборник научных трудов. М., 2005. С. 3-16.
- Косарев В.Н. Некоторые криминологические проблемы и их современная трактовка // Безопасность бизнеса. 2007. № 4. С. 31-37.