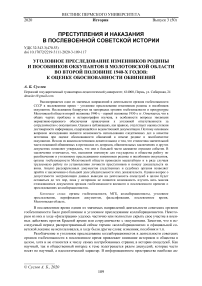Уголовное преследование изменников родины и пособников оккупантов в Молотовской области во второй половине 1940-х годов: к оценке обоснованности обвинений
Автор: Суслов А.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Преступления и наказания в послевоенной советской истории
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается одно из значимых направлений в деятельности органов госбезопасности СССР в послевоенное время - уголовное преследование изменников родины и пособников оккупантов. Исследование базируется на материалах органов госбезопасности и прокуратуры Молотовской области второй половины 1940-х - первой половины 1950-х гг. Отмечается, что в общих чертах проблема в историографии изучена, в особенности вопросы эволюции нормативно-правового обеспечения привлечения к уголовной ответственности за сотрудничество с оккупантами. Однако в публикациях, как правило, отсутствует оценка степени достоверности информации, содержащейся в ведомственной документации. Поэтому основным вопросом исследования является возможность использования следственных дел в качестве источника при оценке обоснованности обвинений в измене родине и пособничестве оккупантам. Исходя из анализа источников делается вывод о том, что стилистика значительной части показаний обвиняемых в протоколах их допросов, обвинительных заключениях и других документах позволяет утверждать, что они в большей части адекватно отразили события. В заключении отмечается, что, выполняя значимую для государства и общества работу по разоблачению и уголовному преследованию изменников родины и пособников оккупантов, органы госбезопасности Молотовской области проводили масштабную и в ряде случаев трудоемкую работу по установлению личности преступников и поиску доказательств их вины. Анализ рассекреченных документов следственных и судебных органов позволяет прийти к заключению о большой доле убедительности этих доказательств. Однако вопрос о допустимости экстраполяции данных выводов на деятельность спецслужб в целом будет оставаться до тех пор, пока у историков не появится возможность изучить весь массив отложившихся документов органов госбезопасности военного и послевоенного времени о преследованиях коллаборационистов.
Органы госбезопасности, мгб, коллаборационисты, уголовное преследование, верификация документов, фальсификация, послевоенное время, молотовская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147246311
IDR: 147246311 | УДК: 32:343.3(470.53) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-109-117
Текст научной статьи Уголовное преследование изменников родины и пособников оккупантов в Молотовской области во второй половине 1940-х годов: к оценке обоснованности обвинений
В послевоенное время одним из значимых направлений деятельности советских органов госбезопасности было разоблачение и уголовное преследование коллаборационистов. Некоторым из них в ходе «фильтрации» удалось частично или полностью скрыть свое участие в военных действиях против Красной армии или сотрудничество с оккупантами. Заметим, что в исследуемый период распространенный сейчас термин «коллаборационизм» в официальной советской лексике не использовался, в ходу были другие слова: изменник, пособник и т.п.
Разоблачение и уголовное преследование коллаборационистов в деятельности советских органов госбезопасности в послевоенное время привлекает внимание историков и общества в целом, хотя и не относится к числу самых востребованных страниц в истории спецслужб. Как научный, так и общественный интерес к теме подогревается рядом дискуссий, которые часто носят не научный, а идеологический характер. В информационном пространстве наиболее ак-
тивно проявляют себя историки и общественные деятели, выступающие против «очернения» органов НКВД, «Смерш», МГБ.
Так, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления Яд ва-Шем Арон Шнеер утверждает: «Сегодня работники СМЕРШ некоторыми писателями, публицистами, работниками кино показаны в искаженном, порой даже карикатурном образе. Работа СМЕРШ чрезвычайно необходимая не только в годы войны, но и первый послевоенный год незаслуженно оболгана» [ Шнеер ]. Трудно не согласиться с его аргументацией с позиции морали: «Люди, пережившие издевательства полицаев, охранников, прошедшие лагеря и гетто, чудом уцелевшие и их потомки, должны быть признательны, органам госбезопасности Советского Союза за то, что их мучители понесли заслуженное наказание» [Там же]. Убедительно выглядит ряд примеров разоблачения коллаборационистов, которым удалось пройти проверку, скрыв свои преступления. Однако хотелось бы найти документальные подтверждения этих заявлений о «превосходной работе» сотрудников государственной безопасности и отсутствии каких-либо фальсификаций в деятельности следователей.
Оценка обоснованности обвинений коллаборационистов, выдвинутых как органами госбезопасности, так и судами в послевоенное время, представляется весьма значимой и заслуживающей внимания проблемой. Отсутствие анализа использованных источников всегда будет порождать сомнения в выводах. В статье исследуются возможности оценить достоверность обвинений в измене родине и пособничестве оккупантам на основе доступных материалов Моло-товской области.
Складывается впечатление, что многие исследователи не замечают или обходят названную проблему. Так, В. Е. Чопова, утверждает, что «в ходе следственных мероприятий, по крайней мере с 1943 года…, проводились действия, направленные на тщательный сбор улик и материалов, которые бы доказывали вину подсудимых с максимально возможной точностью с одной стороны, и исключали наказание лиц, не имевших отношение к военным преступлениям периода Второй мировой войны», причем доказывалось это лишь ссылкой на директивы, нацеливавшие правоприменителей на такие действия [ Чопова ]. С этим мнением диссонируют точка зрения С. Г. Степаненко, согласно которой права подсудимых соблюдались в той мере, в какой это было характерно для всей правоприменительной практики советской судебной системы в целом, поскольку дела данной категории рассматривались и слушались военными трибуналами и по законам военного времени [ Степаненко , 2010, с. 162].
Не убедительны и заявления А. Дюкова: «Отчеты о деятельности органов НКВД на освобожденной территории свидетельствуют, что никаких массовых репрессий по отношению к жителям освобожденных районов не проводилось. Арестовывались только те, кто совершил измену Родине, – и только в том случае, если эту измену можно было доказать» [ Дюков ]. Подчеркнем, что сомнения вызывает не значительное количество тщательно расследованных сотрудниками спецслужб преступлений коллаборационистов и не возможность использования отчетов НКВД для анализа тех или иных аспектов проблемы, а недостаточность введенных в научный оборот документов для масштабных обобщений.
В этом ключе заслуживают внимания выводы В. Лазарева относительно другой, но похожей категории осужденных: «Общее число осужденных за шпионскую связь с иностранными дипломатами в послевоенный период достигает нескольких десятков человек. Однако данные цифры не отражают действительного положения дел. Следуя установившейся с 1930-х годов традиции, контрразведчики расширительно трактовали состав такого преступления как измена Родине в форме шпионажа. Чуть ли не любая информация, которую советские граждане сообщали иностранцам, например, о нехватках продуктов в магазинах, тяжелом положении в колхозах и т.п., рассматривалась как передача клеветнических, а то и разведывательных материалов об СССР. Исходя из этого, требуется тщательно анализировать и заново оценивать с юридической точки зрения имеющуюся в архивах информацию относительно данной категории арестованных в период 1945–54 годов советской контрразведкой лиц» [ Лазарев ].
Характеризуя историографическую ситуацию, следует констатировать, что деятельность органов госбезопасности по разоблачению коллаборационистов в целом представлена в ряде статей и обобщающих трудов по истории спецслужб [Коровин, 1998; Лазарев; Мозохин, 2016; Семиряга, 2000; «Смерш», 2003; Христофоров, 2011, и др. ]. Неплохо изучены вопросы эволю- ции нормативно-правового обеспечения привлечения к уголовной ответственности за сотрудничество с оккупантами [Макаров, 2017; Фомин; Чопова и др. ]. Исследователи убедительно продемонстрировали, что правовые подходы к уголовному преследованию коллаборационистов в 1941-1946 гг. неоднократно изменялись. До 1942 г. (директива НКВД СССР № 64 от 18 февраля 1942 г. «О задачах и постановке оперативно-чекистской работы на освобожденной от немецко-фашистских оккупантов территории СССР» и приказ Прокурора СССР № 46сс от 15 мая 1942 г. «О квалификации преступлений лиц, перешедших на службу к немецко-фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом») понятия «предатель», «изменник Родины», «пособник оккупантов» фактически не разделялись, при конструировании состава преступления об измене Родине допускалось расширительное толкование нормы, позволявшее квалифицировать любые контакты с врагом как предательство. После издания 19 апреля 1943 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», определившего состав наказуемых деяний оккупантов и их пособников, конкретизированного разъяснениями Пленума Верховного суда СССР 25 ноября 1943 г. и его постановлением от 23 марта 1944 г, а также приказом МВД СССР № 97 от 20 апреля 1946 г., проявления коллаборационизма и их уголовно-правовая оценка были юридически разграничены. В целом, как точно отметил А. А. Фомин, институт ответственности коллаборационистов эволюционировал «от признания преступным факта попадания советского военнослужащего в плен до возможности освобождения от ответственности советских граждан, хотя и состоявших на службе у немецко-фашистских захватчиков, но не причастных к активной предательской деятельности» [ Фомин ].
Как в обобщающих работах, так и в ряде публикаций о деятельности органов госбезопасности в послевоенное время, в том числе в отдельных регионах, представлено довольно много примеров выявления преступников, предававших советских граждан, принимавших участие в карательных операциях и т.п. При этом обычно более или менее подробно описываются преступные деяния, установленные следствием, иногда раскрывается определенный комплекс действий органов МГБ, позволивший разыскать и идентифицировать коллаборационистов. Как правило, отсутствует оценка степени достоверности информации, содержащейся в ведомственной документации. Например, В. П. Мотревич в статье «Деятельность органов МГБ в первые послевоенные годы по выявлению бывших полицаев и немецких пособников (по материалам архива УФСБ РФ по Свердловской области)» описывает 12 историй предательства, выявленных в 1945–1950 гг. в Свердловской области. В заключении он отмечает: «Несмотря на широко проводимую в 1990-е гг. в РФ реабилитацию жертв политических репрессий, под которую попали даже многие осужденные военные преступники, основная масса проходивших по вышеуказанным делам лиц реабилитирована не была. Это свидетельствует о том, что данная категория лиц, совершавшая изменнические действия в годы Великой Отечественной войны, справедливо понесла заслуженное наказание» [ Мотревич , 2007, с. 156]. Отсутствие в статье верификации источников, к сожалению, не позволяет нам однозначно утверждать о заслуженности наказания. Ссылки на оценки правоохранительных органов не могут подменять источниковедческий анализ.
Важным комплексом источников, который имеется в распоряжении историков, являются материалы региональных комиссий по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления. Эти материалы включают протоколы и заключения комиссий, выдержки из обвинительных заключений (иногда обвинительные заключения целиком), в отдельных случаях -фрагменты материалов следствия, при прекращении дел - протесты прокурора и некоторые другие документы. В Молотовской области комиссия по рассмотрению уголовных дел осужденных за контрреволюционные преступления, находящихся в ссылке на поселении, работала с мая 1954 г. по август 1955 г. За это время она рассмотрела 1553 дела 2031 осужденного. В итоге дела 135 человек были прекращены, в 8 случаях был переквалифицирован состав преступления без уменьшения срока лишения свободы, 161 человек был амнистирован по Указу Президиума Верховного совета от 27 марта 1953 «Об амнистии», для 922 осужденных срок был сокращен без амнистии, семерым была отменена ссылка на поселение, 7 дел было отправлено на досле- дование. В то же время 791 осужденному было отказано в пересмотре решений по делам (ГАПК. Ф.р-1366. Оп.1 Д.779. Л.22).
В Государственном архиве Пермского края отложилось 23 протокола комиссий (с сопутствующими делами) из 37 (ГАПК. Ф.р-1366. Оп.1. Д.753–774, 778). В данном массиве документов дела на тех, кто служил в полиции на оккупированной территории или в каких-либо подразделениях Вермахта, СС и т.п., а также в какой-либо иной форме сотрудничал с оккупантами, составляют около трети. Анализ рассмотренных документов показывает, что комиссии обращали внимание в первую очередь на два вопроса: имелись ли грубые нарушения процессуальных норм следственными или судебными органами, было ли установлено добровольное участие осужденных в карательной деятельности, убийствах советских граждан и т.п. В относительно небольшом количестве случаев (около двухсот) констатировалось, что обвинение было вынесено необоснованно или вина осужденных не была доказана (полностью или частично), поскольку, например, «свидетели допрошены не были, их показания не были проверены». Обычно это влекло за собой прекращение таких дел. В случае, если материалы дел не свидетельствовали об «активной карательной деятельности», осужденных амнистировали или значительно сокращали срок лишения свободы (часто вдвое или более).
Следует подчеркнуть, что данный комплекс источников позволяет лишь фрагментарно ознакомиться с материалами следствия. Установить, насколько тщательно члены комиссий рассматривали эти материалы, насколько их выводы могут быть признаны обоснованными в современной системе координат, не представляется возможным, тем более, если мы будем учитывать идеологические установки, которыми руководствовались советские должностные лица в середине 1950-х гг.
Наряду с указанными источниками мы можем рассмотреть несколько недавно частично рассекреченных дел коллаборационистов, которые вели органы МГБ Молотовской области в 1945–1949 гг. Эти дела, тем не менее, дают возможность углубить наши представления об исследуемой проблеме и расширить возможности использования следственных дел в качестве источника. Рассмотрим четыре истории, как они представлены в документах.
Георгий Андреевич Кудряшов, 1920 г.р., судя по материалам дела, командовал взводом истребительного батальона в Житомирской области и попал в окружение в августе 1941 г. Оказавшись на оккупированной территории, перебрался в родной город Звенигородка (Киевская область). В июле 1943 г. дал согласие сотрудничать с немецкой контрразведкой. В августе – октябре 1943 г. на территории Киевской области участвовал в выявлении лиц, связанных с партизанами, лично выдал немецкой жандармерии двух участников антифашистской организации, сообщил жандармерии об антинемецких настроениях двух граждан. С декабря 1944 г. по май 1945 г. служил в Российской освободительной армии в должности командира взвода. Впоследствии вместе с другими советскими гражданами, служившими во власовской армии, его переместили на советскую территорию. В мае 1946 г. Кудряшов прошел проверку в Ныробском ИТЛ и был оставлен на спецпоселении на 6 лет как «власовец». В соответствии с советским законодательством того времени это было стандартное наказание за службу в РОА, не отягощенную более серьезными преступлениями, поскольку о сотрудничестве с подразделением германской контрразведки в 1943 г. он умолчал. Проживал он в пос. Рябинино Чердынского района. Несмотря на то, что Звенигородское РО НКГБ завело на Кудряшова учетно-розыскное дело еще 23 февраля 1945 г., чекистам удалось идентифицировать его как предателя только летом 1947 г. Задача облегчалась тем, что имя и фамилию разыскиваемый не менял. Подготовка материала для уголовного преследования потребовала серьезных усилий: по запросу Молотов-ского МГБ в Киевской области были разысканы и допрошены свидетели, проверялись сведения о службе в истребительном батальоне, работе в советских учреждениях, разыскивались и допрашивались те, кто знал его во время оккупации. После ареста Кудряшова 15 октября 1947 г. допросы обвиняемого и свидетелей дополнялись работой осведомителей-сокамерников и другими оперативными мероприятиями. Обвинительное заключение, подкрепленное многочисленными материалами дела, было передано в военный трибунал, который в 1948 г. приговорил Куряшова к 25 годам лишения свободы (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 2422).
Сергей Антонович Шлепкин, 1906 г.р., судя по материалам дела, осенью 1941 г. попал в плен, в феврале 1942 г. бежал и далее находился на территории Брянской области. В июне
1942 г. поступил на службу в бригаду СС Каминского, был пулеметчиком, неоднократно участвовал в боях и карательных операциях против партизан, выезжал на подавление Варшавского восстания1. Осенью 1944 г. был зачислен в РОА, где служил до пленения советскими войсками. После фильтрационного лагеря Шлепкина отправили на спецпоселение в Красновишерский район (пос. Усть-Язьва) как «власовца». Там его и арестовали в октябре 1949 г. 29 декабря 1949 г. военный трибунал УрВО приговорил его к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 1645). 14 октября 1954 г. Молотовская комиссия по пересмотру уголовных дел осужденных за контрреволюционные преступления приняла решение уменьшить ему срок лишения свободы до 10 лет. На основании решения комиссии генпрокурор направил протест на ранее вынесенный приговор в Военную коллегию ВС СССР, мотивировав его тем, что «Шлепкин на службу в бригаду ″СС″ Каминского поступил не добровольно, а был мобилизован немецкими властями. Следствием и судом не установлено конкретных фактов карательной деятельности со стороны Шлепкина, совершенных по его инициативе» (ГАПК. Ф.р-1366. Оп.1. Д.764. Л.82).
Михаил Павлович Дьяков, 1901 г.р., судя по материалам дела, служил в РККА с 1919 г. В середине июля 1941 г. майор Дьяков попал в плен. В декабре 1941 г. вступил в «Русскую трудовую народную партию», действовавшую в лагере военнопленных при поддержке администрации лагеря. В июне 1943 г. дал согласие сотрудничать с немецкой разведкой и был направлен в диверсионную школу, где заведовал складом боеприпасов до марта 1945 года. В апреле 1945 г. Дьякова перевели в PОA, где он служил в должности начальника продснабжения штаба вспомогательных войск PОA. После капитуляции Германии он остался в американской зоне оккупации, жил в Зальцбурге и работал начальником биржи труда при «Комитете невозвращенцев». В мае 1946 г. американцы передали его вместе с другими «жертвами Ялтинских соглашений» советскому командованию. Материалы дела не содержат сведений о скрупулезной работе сотрудников госбезопасности по сбору доказательств. Она ограничилась серией допросов обвиняемого и парой допросов свидетелей. 11 июля 1946 г. военный трибунал Центральной группы войск приговорил Дьякова к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 29191).
Никита Иванович Бурко, 1893 г.р., судя по материалам дела, работал сельским старостой на оккупированной территории в Белорусии в 1941–1944 гг. Занимая эту должность, организовывал насильственное изъятие продуктов у неплательщиков налогов, производил сбор теплых вещей для немецкой армии, отправлял в Германию лес, сообщал немецкому коменданту о появлении партизан, в 1943 г. отправил на работу в Германию четырех жителей села, при приближении Красной армии организовал эвакуацию населения в тыл немецкой армии. После изгнания оккупантов, в феврале 1945 г., Бурко был мобилизован наркоматом обороны СССР на лесозаготовки в Чусовском районе Молотовской области. 15 августа 1945 г. он был арестован. 28 ноября 1945 г. Судебная коллегия Молотовского областного суда приговорила его к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 2 года и с конфискацией имущества (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 24389). 23 июня 1954 г. Молотовская комиссия по пересмотру уголовных дел осужденных за контрреволюционные преступления признала, что приговор вынесен правильно, и приняла решение «в пересмотре дела отказать» (ГАПК. Ф.р-1366. Оп.1. Д.754. Л. 78–79).
В указанных делах доступные для исследователей документы (анкеты обвиняемых, протоколы допросов, обвинительные заключения, приговоры, справки, ведомственная переписка и т.п.) довольно типичны для розыскного и уголовно-следственного делопроизводства. Естественно, в ряде случаев мы обращаем внимание на формулировки чекистов, определяемые идеологией и нормативно-правовой лексикой того времени. Тем не менее стилистика значительной части показаний обвиняемых в протоколах их допросов, обвинительных заключениях и других документах позволяет утверждать, что они в большей части адекватно отразили события.
В деле Кудряшова его вина была доказана не только на основе его собственных признаний. Девять свидетелей дали показания о различных эпизодах его сотрудничества с оккупантами, из них только один был осужден как предатель, остальные с немцами не сотрудничали, некоторые участвовали в сопротивлении оккупантам. Эпизоды преступной деятельности, попав- шие в обвинительное заключение, – единичны: выдача фашистам двух конкретных подпольщиков, сбор сведений о сотрудничающих с партизанами, участие в карательной операции (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 2422. Л. 175–178). Заметим, что в обвинительное заключение не попали не подтвержденные другими свидетелями показания на допросе осужденного Бакуменко о том, что Кудряшов передавал ему списки многих граждан, связанных с партизанами и подпольщиками, а также донесения осведомителя об убийстве Кудряшовым двух советских офицеров и его антисоветских высказываниях в камере (Архив УФСБ по Пермскому краю… Д. 2422. Л. 95об., 112, 135). Это свидетельствует о стремлении сотрудников МГБ отсечь сомнительные улики.
В деле Шлепкина его вина также была доказана не только на основе его собственных признаний. Двое свидетелей дали показания о его участии в карательных операциях против партизан. Правда, эти свидетели служили у немцев, что вызывает сомнения в правдивости их слов. В то же время некоторые стилистические особенности документов дают возможность предположить, что показания Шлепкина, зафиксированные в протоколе допроса, скорее всего отражают слова обвиняемого. В частности, об этом свидетельствует отсутствие прямых утверждений о собственной вине, характерных для обвинителей, но не для обвиняемых, вроде «моя преступная деятельность», «я стрелял в партизан» и т.п. Подобными языковыми конструкциями, приписываемыми обвиняемым, изобилуют протоколы допросов конца 1930-х гг. Стилистику показаний Шлепкина, переданную в протоколах данного дела, можно охарактеризовать как осторожное признание. То есть он не отрицает участия в боях и карательных операциях, но старается показать себя пассивным участником их, в ряде случаев говорит, что на его участке активных боевых действий не было или он во время боя охранял штаб, что в бригаду СС Каминского его мобилизовали и т.д. Кроме того, зафиксирован отказ Шлепкина признать участие в одном из боев, вопреки показаниям свидетелей и давлению следователя. Эпизоды преступной деятельности, попавшие в обвинительное заключение, конкретны: служба в конкретных подразделениях армии противника, участие в четырех конкретных боях с партизанами (с указанием местности и дат) и в подавлении Варшавского восстания (Архив УФСБ по Пермскому краю... Д. 1645. Л. 30–38, 45, 47, 49, 58–60). Все это и учла комиссия по пересмотру дел, признавшая, что Шлепкин не принимал активного участия в карательной деятельности.
Основанием обвинения Дьякова послужило его признание и показания двух свидетелей, подтвердивших его работу в диверсионной школе. Ограниченность доказательной базы вызывает определенные сомнения в ее объективности. Кроме того, по стилистике составленных документов заметно стремление следователя исказить слова обвиняемого и представить их в апологии обвинения, придав действиям обвиняемого более преступный характер. Так, согласно протоколу допроса Дьяков заявляет: «Будучи заведующим этого склада (боеприпасов и взрывчатых веществ. – А.С. ), я снабжал взрывчатыми веществами немецких диверсантов, которые перебрасывались в тыл советских войск, а также обеспечивал оружием изменников родины, участвовавших в операциях против партизан» (Архив УФСБ по Пермскому краю... Д. 29191. Л. 89). Очевидно, что заведующий складом выполнял техническую работу – выдавал имущество в соответствии с распоряжениями начальников; интерпретация же его действий в модальности мотивированного снабжения врага оружием является фальсификацией. Очевидно и то, что сам обвиняемый не мог произнести фразу, настолько неточно передающую смысл его действий.
Тем не менее можно предположить, что общая канва обвинения достоверна, поскольку, несмотря на определенную тенденциозность следствия, обвинение не выходит за рамки здравого смысла и концентрируется на фиксации преступления, выразившегося в сдаче в плен, членстве в лагерной партии, ставившей целью борьбу с советской властью, работе в диверсионной школе, членстве в эмигрантской организации, что также рассматривалось как контрреволюционное деяние. В пользу относительной объективности следствия свидетельствует и то, что в протоколах допросов зафиксирован отказ Дьякова подтвердить показания свидетелей о том, что он был начальником боепитания диверсионной школы (Дьяков настаивал на том, что он был только завскладом). К сожалению, неизвестно, как отнеслась к данным материалам комиссия по пересмотру дел, поскольку ее протокол по этому делу не отложился в архиве.
В деле Бурко помимо его признания есть показания 6 свидетелей, двое из них – жители деревни Малая Слобода, где обвиняемый был старостой во время оккупации. Обвинения вполне конкретны и рациональны (Архив УФСБ по Пермскому краю... Д. 24389. Л. 3–4). Ограниченное количество рассекреченных документов по делу не дает возможности сделать вывод о достоверности доказательств вины Бурко, хотя их характер и стилистика позволяют предположить, что добровольное содействие оккупантам Бурко все-таки оказывал. Комиссия по пересмотру дел, как отмечалось, вину Бурко тоже признала.
Внимания заслуживает также ряд документов, косвенно свидетельствующих о заинтересованности высокопоставленных руководителей органов госбезопасности в установлении фактов преступной деятельности подозреваемых. В частности, судя по директиве начальника УНКГБ Молотовской области И. И. Зачепы от 9 июня 1945 г., он заботился о качестве расследования дел своими сотрудниками, по крайней мере, на официальном уровне. В директиве жестко критикуются его подчиненные (Коми-Пермяцкий окротдел, Краснокамский, Лысьвенский горотделы, Карагайский, Чермозский, Добрянский и Н-Сергинский райотделы НКГБ), запросившие санкции на арест людей, вредительская деятельность которых не была должным образом документирована и доказана (санкции не были даны). В качестве примеров недобросовестной работы указывались случаи неправдоподобных описаний подрывной деятельности, опора на данные провокатором сведения без проведения проверки, опора на показания некомпетентных свидетелей (технические работники заявляли, что врач ставит неправильные диагнозы), голословные утверждения осведомителей и т.д. Зачепа даже пригрозил начальникам периферийных органов взысканиями за факты необоснованных запросов и санкций на арест (Архив УФСБ по Пермскому краю... Д. 479. Л. 41–41об.).
Таким образом, выполняя значимую для государства и общества работу по разоблачению и уголовному преследованию изменников родины и пособников оккупантов, советские органы госбезопасности, в том числе Молотовской области, проводили масштабную и в ряде случаев трудоемкую работу по установлению личности преступников и получению доказательств их вины. Анализ рассекреченных документов следственных и судебных органов позволяет прийти к заключению о довольно высокой степени убедительности этих доказательств.
Вопрос о возможности экстраполяции выводов, сделанных в ходе данного исследования на деятельность спецслужб в целом, тем не менее, остается. Доступный историкам на сегодня комплекс источников фрагментарен, поэтому не может служить достаточным основанием для выводов об обоснованности привлечения к ответственности за коллаборационизм всех осужденных. А. Дюков утверждает, что «заявление Солженицына о том, что аресту подвергались за поставку немцам телеги сена, является целиком и полностью ложным – равно как и рассказы многих его последователей» [ Дюков ]. Однако подтвердить или опровергнуть подобные утверждения можно будет только тогда, когда историки смогут изучить весь массив отложившихся документов органов госбезопасности военного и послевоенного времени о преследованиях коллаборационистов.
Список литературы Уголовное преследование изменников родины и пособников оккупантов в Молотовской области во второй половине 1940-х годов: к оценке обоснованности обвинений
- Дюков А. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников // Механизмы войны. URL: http://www.warmech.ru/karateli/du_kol_1.html (дата обращения: 31.01.2018).
- Коровин В.В. История отечественных органов безопасности. М.: Норма-ИНФРА-М,1998. 253 с.
- Лазарев В. Деятельность органов государственной безопасности СССР в послевоенный период (1945-1954 гг.) // ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru/fsb/history/author/single.htm%21id%3 D10318067%40fsbPublication.html (дата обращения: 31.01.2018).
- Макаров В.Г. Розыск военных преступников, изменников родины и пособников оккупантов на освобождённой территории СССР в 1941-1943 гг. // Военно-исторический журнал. 2017. №6. С.46-52.
- Мозохин О.Б. Статистические сведения о деятельности органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ (1918-1953 гг.). М.: ООО "ТД Алгоритм", 2016. 448 с.