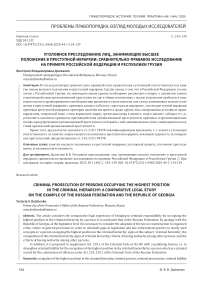Уголовное преследование лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: сравнительно-правовое исследование на примере Российской Федерации и Республики Грузия
Автор: Долженко В.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен сравнительно-правовой опыт привлечения к уголовной ответственности за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии. Сделан вывод о том, что в Российской Федерации, по аналогии с Республикой Грузия, на законодательном уровне необходимо рассмотреть вопрос о принятии закона о противодействии организованной преступности, где в общих положениях с целью устранения пробелов в законодательстве и правоприменительной практики разъяснить такие понятия, как «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии», признаки данного субъекта, «преступная иерархия», состав преступной иерархии, признаки преступной иерархии, критерии наличия авторитета среди других лиц, совершавших уголовные правонарушения, «воровской мир», «член воровского мира», «репутация вора в законе», «вор в законе», «общак» и т. д.; установить основные принципы противодействия организованной преступности, правовые и организационные основы предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений организованной преступности. Кроме того, предлагается дополнить ст. 210.1 УК РФ квалифицирующим признаком, т. е. усилить уголовную ответственность за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, 210.1 УК РФ.
Занятие высшего положения в преступной иерархии, уголовный процесс, уголовное преследование, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14133274
IDR: 14133274 | УДК: 343.132 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-134-139
Текст научной статьи Уголовное преследование лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: сравнительно-правовое исследование на примере Российской Федерации и Республики Грузия
Противодействие организованной и рецидивной преступности является одной из значимых, и вместе с тем, наиболее сложных задач в деятельности не только нашего государства, но и всего мирового сообщества. Особую актуальность имеет пресечение и предупреждение преступлений, связанных с занятием лицом высшего положения в преступной иерархии, поскольку именно данными лицами осуществляется не только координация всей деятельности преступной организации, но и проводится системная идеологическая мотивация потенциально «преступно-ориентированных» лиц.
Наступательная позиция в деятельности всех правоохранительных органов и прокуратуры Российской Федерации заключается в проведении комплекса мер по своевременному выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающих высшую ступень в структуре преступной организации.
Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности»1 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) дополнен ст. 210.1, предусматривающей уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Результаты изучения правоприменительной практики позволяют констатировать, что лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, как правило, лично не участвуют непосредственно в совершении преступлений, вследствие чего их преследование достаточно затруднено. Этому способствуют оценочные признаки ст. 210.1 УК РФ, исчерпывающей характеристики которым российский законодатель не дает.
В работах криминологов криминальная иерархия понимается как своеобразная табель о рангах для лиц, исповедующих криминальную идеологию и придерживающихся «воровского кодекса». Высшую ступень в криминальной иерархии, занимаемую «ворами», которые могут делегировать свои полномочия доверенным лицам, составляют «контролеры» и «вожаки». Помимо криминальных авторитетов, субъектом преступления по ст. 210.1 УК РФ предлагается считать также «контролеров», «вожаков», держателей «общака» и «доверенных лиц» [1, с. 27].
В настоящее время практика применения ст. 210.1 УК РФ находится в стадии формирования. Имеются определенные сложности в суде, связанные с толкованием оценочных понятий, используемых в диспозиции статьи, касающихся преступной иерархии и высшего положения в ней. Помимо этого, имеются определенные трудности в доказывании времени, места, способа и факта приобретения виновным соответствующего криминального статуса.
В силу новизны отдельных положений указанный институт преступлений нуждается не только в разностороннем исследовании качества и полноты содержания с точки зрения внутреннего национального законодательства, его исторического генезиса и правопреемства, но и объективно требует соотношения со схожими нормами, закрепленными в уголовных законе Республики Грузия. Общеизвестно, что обращение к анализу зарубежного законодательства позволяет лучше познать право своей собственной страны, почерпнуть новые идеи и аргументы, которые могли оставаться вне поля зрения национального законодателя. Также считаем, что сравнительно-правовое исследование отечественных и зарубежных норм, устанавливающих уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, поможет лучше понять то, что российский законодатель при реформировании рассматриваемого института руководствовался не только объективными потребностями защиты национальных интересов, но и опирался на правовой опыт иных законодательных систем [2, с. 187].
Материал и методы
В статье использованы нормативные правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, регламентирующие вопросы уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, специальная литература по предмету исследования, материалы, размещенные в СМИ.
В качестве специальных правовых частно-научных исследовательских методов использованы: формальноюридический метод, метод правового прогнозирования, метод правовой герменевтики.
Сравнительно-правовой анализ применялся при исследовании зарубежного опыта уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, его сопоставления с российским опытом и выявления возможных направлений обмена опытом.
Описание проводимого исследования
Первое упоминание о криминальном авторитете как о субъекте преступления относится еще к 2009 году — к моменту появления ч. 4 ст. 210 УК РФ. За прошедшее время в научном сообществе неоднократно поднимался вопрос об оценочном характере введенного понятия, его абстрактности и отсутствии его толкования в нормативно-правовой базе [3, с. 159].
Ученые неоднократно предлагали включить в постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»1 ряд признаков и критериев такого субъекта.
При этом мнения исследователей расходятся относительно того, кого именно следует относить к рассматриваемой категории лиц.
Так, А. Н. Мондохонов считает, что «предложенная законодателем формулировка должна охватывать «воров в законе», а также криминальных лидеров организованных преступных объединений, не относящихся к воровской среде. Исходя из данной позиции, к лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии, можно отнести не только «воров в законе», но и иные категории преступных авторитетов, которые имеют соответствующий статус и так или иначе могут оказывать негативное воздействие как на преступный контингент, так и на законопослушных граждан» [4, с. 54].
Изложенное позволяет заключить, что в теории уголовного права до сих пор не сформировано единого подхода к толкованию понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Верховный Суд РФ каких-либо четких рекомендаций такого толкования также не выработал, что означает передачу решения этого вопроса на усмотрение суда, который рассматривает или будет рассматривать дело. Такое положение, безусловно, требует исправления. Возникает необходимость в разработке закона о борьбе с организованной преступностью, регламентирующего признаки и критерии отнесения лиц к рассматриваемой категории. До его принятия такую терминологию, в том числе и с использованием определений соответствующих лиц на принятом в криминальной среде языке, который не может быть применим в законе, необходимо растолковать в постановлении Пленума Верховного Суда РФ [3, с. 162].
Занять высшее положение в преступной иерархии лицо может только осознанно. На это указывает осуществление данным лицом активной криминальной деятельности, посредством которой оно продвигается внутри криминальной иерархии. Поэтому с субъективной стороны новое преступление предполагает только прямой умысел лица на занятие высшего положения в преступной иерархии.
В 2019 году УК РФ дополнен ст. 210.1 об уголовной ответственности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, что вызвало неоднозначную реакцию и обоснованную критику со стороны научного сообщества. Суть претензий заключается в том, что статус лица в преступном мире не может быть основанием уголовной ответственности.
Отметим, что основанием уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ, является не сам статус лица в преступной иерархии, а общественно опасная управленческая деятельность, основанная на его авторитете в преступной среде, направленная на обеспечение функционирования организованной преступности.
Для этого необходимо установить, что лицо имеет влияние на лиц, занимающих более низкий статус в преступной иерархии, ведет активную организационно-распорядительную деятельность, направленную на поддержку организованной преступности.
Для привлечения к ответственности по ст. 210.1 УК РФ, следователь и суд не должны ограничиваться формальным установлением положения лица в преступной иерархии. Необходимо доказать, что виновный, используя свой криминальный авторитет, активно осуществляет управленческую деятельность в преступных сообществах на свободе и в местах лишения свободы, участвует в разработке и принятии политических решений, обязательных для членов организованных преступных групп, а также негативно настроенных осужденных в исправительных учреждениях.
По справедливому замечанию А. Н. Мондохонова, «…у правоприменителя возникают закономерные вопросы о том, какой уровень существующей „преступной иерархии“ следует признавать высшим? Ведь значимость и авторитет лидеров различных организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций) относительны, всегда кто-нибудь занимает положение выше другого, а конкретное региональное преступное сообщество (преступная организация) может выступать в качестве структурного подразделения другого, например, межрегионального преступного сообщества (преступной организации)» [4, с. 56].
Следует согласиться с позицией Е. В. Саньковой, которая отмечает, что для отнесения лица к числу занимающих высшее положение в преступной иерархии, наименование его статуса, например, «вор в законе», не является определяющим, ключевое значение имеют следующие критерии: функция координации элементов структуры преступного мира с целью обеспечения его стабильного функционирования, авторитет в преступной среде, объем полномочий по отношению к другим ее субъектам [5, с. 173].
Отметим, что придание или получение высшего статуса в преступной иерархии квалифицируется как формальные преступления, поэтому эти действия считаются оконченными с момента предоставления возможности осуществлять функции обладателю высшего статуса в криминальной иерархии или получения такой возможности. Наличие оконченного преступления не требует, чтобы лицо, которому присвоен такой статус, действительно совершило какое-либо деяние, подпадающее под понятие «высшее положение в преступной иерархии».
Определенный интерес вызывает зарубежный опыт уголовного преследования лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.
Так, в результате принятия определенных законодательных решений, направленных на борьбу с организованной преступностью, правоохранительным органам Республики Грузия удалось добиться положительных результатов в борьбе с криминальными авторитетами.
20.12.2005 года по инициативе действующего на тот момент президента Грузии М. Н. Саакашвили, парламентом Грузии был принят Закон «Об организованной преступности и рэкете»1. Одним из преимуществ данного нормативно-правового акта является то, что в нем определены основные понятия, необходимые для осуществления борьбы с организованной преступностью (воровское сообщество, деятельность воровского сообщества, член воровского сообщества, криминальный авторитет, воровская разборка, воровская сходка).
Предпосылками для криминализации самого статуса «вор в законе» стало то, что уровень организованной преступности в Грузии постоянно рос, а непосредственной причиной такого роста было то, что на территории Грузии действовала целая иерархическая система во главе с «ворами в законе». и, несмотря на скептицизм и сомнения по поводу действенности внедрения института уголовной ответственности за наличие статуса «вора в законе», организованная преступность в Грузии благодаря этому закону фактически была ликвидирована.
В соответствии со ст. 3 указанного закона, «вор в законе» — лицо, которое в какой-либо форме руководит и организует «воровское сообщество» или определенную группу лиц, использующую методы деятельности «воровского сообщества»2. Общественная опасность нахождения в статусе «вора в законе» связана с его управленческой и организационной деятельностью в преступных сообществах. Такое толкование понятия «вор в законе» вполне соответствует ст. 7 Уголовного кодекса Грузии, в которой указано, что основанием уголовной ответственности является противоправное и виновное деяние3.
При этом воровской мир определяется как «любое сообщество лиц, действующих по установленным/при-знанным им правилам и целью которого является путем запугивания, угрозами, круговой порукой, воровской разборкой, вовлечением в противозаконные действия несовершеннолетних, достижение выгоды для собственных членов или других лиц за счет преступных действий или путем побуждения к таким другим». Членом воровского мира считается «любое лицо, признающее воровской мир и активно действующее для достижения целей воровского мира». Понятие «вор в законе» определяется как «член воровского мира, который по особым правилам воровского мира, в хоть какой форме управляет им, либо/и организует воровской мир, либо определенную группу лиц»4.
28.04.2006 Уголовный кодекс Грузии дополнен ст. 223.1, предусматривающей ответственность за членство в воровском сообществе (ч. 1) и нахождение в положении «вора в законе» (ч. 2). За нахождение в положении «вора в законе» установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом, что в соответствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Грузии соответствует категории тяжкого преступления.
Примечательно, что отличительной чертой грузинского законодательства о борьбе с организованной преступностью является то, что оно ориентировано исключительно на борьбу с «ворами в законе». В российском уголовном праве для характеристики субъекта преступления по ст. 210.1 УК РФ, используется более широкое понятие, лицо, занимающее высшее положение в уголовной иерархии.
Кроме того, в 2018 году Уголовный кодекс Грузии дополнен статьями, предусматривающими уголовную ответственность и за обращение к члену воровского мира (любое лицо, которое обращается к члену воровского мира или законному вору с целью повлиять на разрешение спора и/или решение); поддержку воровского мира (любые действия, способствующие осуществлению деятельности воровского мира); организацию воровской сходки или участие в ней.
Обратимся к судебной практике Грузии. 27.03.2007 в рамках борьбы с организованной преступностью, городской суд Батуми признал виновными гражданина И. за членство в «преступном сообществе». Приговором суда гражданину И. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы по обвинениям за принадлежность к «воровскому миру» в соответствии с законодательством Грузии под этим понятием понимают «лиц, признающих особые правила воровского мира и активно способствуют достижению целей этого воровского мира»5.
10.07.2007 года Апелляционный суд Кутаиси отклонил апелляционную жалобу И., а решением от 29 февраля 2008 года Верховный суд Грузии отклонил его кассационную жалобу как неприемлемую6.
Осужденный И. свою вину не подтвердил, однако суд признал его виновным по ст. 233.1 Уголовного кодекса Грузии по трем эпизодам, которые согласно грузинскому законодательству квалифицируют как уголовноуголовные деяния, совершающие «воры в законе»: внесудебное урегулирование спора уголовным авторитетом, вымогание платы путем принуждения.
Гражданин И. обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (далее — ЕСПЧ), в которой отметил, что определение понятия «вор в законе» в Уголовном кодексе Грузии носит общий характер, и он не знал, что его поведение и высказывания могут иметь негативные последствия — уголовное преследование со стороны государства и выдвижение против него обвинительный приговор1.
И. мотивировал свое заявление тем, что ст. 7 Европейской конвенции по правам человека определено, что никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного правонарушения на основании какого-либо действия или бездействия, которое на момент его совершения не являлось преступлением2.
Правительство республики не возражало против обоснованности жалобы.
ЕСПЧ постановил, что «принятый в 2005 году пакет законов против «воров в законе» не является нарушением Европейской конвенции по правам человека».
ЕСПЧ указал, что благодаря удачным законодательным изменениям 20.12.2005 года Республика Грузия смогла эффективно преследовать и привлечь к ответственности более 180 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 20 из которых были признаны виновными за наличие статуса «вор в законе».
Из решения ЕСПЧ следует, что «исследования, проведенные правительством о влиянии преступного мира, ясно показывают, что это преступное явление имело глубокие корни в обществе и что понятия «преступный мир» и «воры в законе» были широко известными», — заявил Европейский суд, добавив, что концепции, отраженные в закон — «Воровской мир» и «воры в законе» — смысл был уже хорошо известен широкой публике на момент принятия закона»3.
Европейский суд также отметил, что это положение указанного закона является частью более широкого законодательства, которое включает «подробные определения» таких терминов, как «воры» и «вор в законе».
«Соответственно, суд пришел к выводу, что даже если бы заявитель не понимал эти преступные концепции с помощью общих знаний, основанных на сообществе, в рамках более широкого законодательства, действовавшего в то время, он мог бы легко предвидеть это, если бы это было необходимо, с помощью адвоката». Действия заявителя подлежат уголовной ответственности. Таким образом, суд пришел к выводу, что нарушения статьи 7 Конвенции не установлено»4, — указано в решении ЕСПЧ.
В связи с чем, ЕСПЧ отклонил жалобу заявителя и подчеркнул, что принятие закона о борьбе с «ворами в законе» необходимо для Республики Грузии, учитывая определенные исторические факты, например: наличие в Республике «воров в законе» повлияло на формирование преступных структур власти в грузинском обществе и тюремном мире, начиная с советских времен; грузинские «воры в законе» считались одними из самых мощных и влиятельных этнических групп среди своих современников в криминальной элите по всему Советскому Союзу (согласно статистическим данным, грузинские «воры в законе» составляли 31,6 % общего количества преступников, имеющих указанный статус и были вторыми этнической группой после российских «воров в законе»5.
Таким образом, Грузинская Республика является единственной страной постсоветского пространства, которая установила уголовную ответственность за пребывание лица в статусе «вор в законе» и дала определение данному понятию. В Республике благодаря принятию закона «Об организованной преступности и рэкете» к уголовной ответственности привлечены несколько сотен воров в законе и изъято имущество, нажитое преступным путем.
Заключение и вывод
К сожалению, в российском законодательстве, в отличие от грузинского, не закреплены какие-либо критерии отнесения того или иного представителя преступной среды к лицам, занимающим в ней более высокое положение, эти понятия являются частью преступного мира, с которым правоохранительные органы должны бороться.
Полагаем, что свободная трактовка уголовного законодательства недопустима, а потому введение заранее к нему оценочных понятий, которые можно трактовать самостоятельно и не всегда однозначно лицо, применяющее такие нормы, явно нарушает права человека, которое будет объектом уголовных преследований. Думается, что в Российской Федерации, по аналогии с Грузией, на законодательном уровне необходимо рассмотреть вопрос о принятии закона о противодействии организованной преступности, где в общих положениях, с целью устранения пробелов в законодательстве и правоприменительной практики, разъяснить такие понятия, как «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии», признаки данного субъекта, «преступная иерархия», состав преступной иерархии, признаки преступной иерархии, критерии наличия авторитета среди других лиц, совершавших уголовные правонарушения, «воровской мир», «член воровского мира», «репутация вора в законе», «вор в законе», «общак» и т. д., установить основные принципы противодействия организованной преступности, правовые и организационные основы предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений организованной преступности.
Кроме того, предлагается дополнить ст. 210.1 УК РФ квалифицирующим признаком, т. е. усилить уголовную ответственность за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, имеющим судимость за совер- Высказанные предложения помогут повысить эф-шение преступлений, предусмотренных статьями 210, фективность борьбы с организованной преступностью 210.1 УК РФ. на территории Российской Федерации.