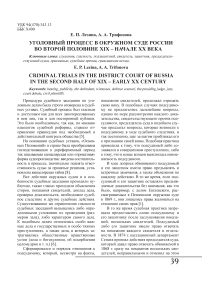Уголовный процесс в окружном суде России во второй половине XIX начале XX века
Автор: Лезина Елена Петровна, Трифонова Алена Алексеевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается изменение процедуры уголовного судопроизводства в район-ном суде России во второй половине XIX – начале ХХ века.
Слушания, гласность, подзащитный, свидетель, защитник, председательствующий судья, присяжные, судебные прения, гражданские истцы
Короткий адрес: https://sciup.org/14720735
IDR: 14720735 | УДК: 94(470):343.13
Текст научной статьи Уголовный процесс в окружном суде России во второй половине XIX начале XX века
Процедура судебного заседания по уголовным делам была строго оговорена в судебных уставах. Судебный процесс был гласным и доступным как для всех заинтересованных в нем лиц, так и для посторонней публики. Это было необходимым, так как, по мнению идеологов судебной реформы, ставило отправление правосудия под необходимый и действительный контроль общества [5].
На основании судебных уставов, «Основных Положений» в стране была преобразована господствовавшая в дореформенный период так называемая канцелярская или «приказная» форма судопроизводства: введена состязательность в процессе, значительно поднята ответственность судьи за принятые решения, установлена канцелярская тайна [8].
Все действия окружных судов и в особенности судебные заседания проходили публично, также гласно проходили объяснения сторон, показания свидетелей, доклад дела, проверка доказательств, необходимое судебное следствие и другие судебные действия. Существовавшие же ограничения гласности судебных заседаний вызывались либо определенными условиями их проведения (размером зала), либо характером самого дела. К подобным делам относились особо важные дела о государственных и особо тяжких преступлениях, а также дела, в которых затрагивались общественные нравственные устои (дела о богохулении, об оскорблении целомудрия и т. п.) [6].
Сформировался и порядок отношения к подсудимому, который, несмотря на факты, показания свидетелей, продолжал отрицать свою вину. В подобных случаях подсудимому не предлагались дальнейшие вопросы, однако по мере рассмотрения каждого доказательства, свидетельствующего против подсудимого, председатель суда в подобном случае предлагал вопросы, которые возникли к подсудимому в ходе судебного следствия, и так постепенно, шаг за шагом приближал его к признанию своей вины. Подобная практика приводила к тому, что подсудимый либо сознавался в совершенном преступлении, либо к тому, что в конце концов выяснялась невменяемость подсудимого.
В ходе допроса обвиняемого подсудимый и его защитник имели право предъявлять и встречные замечания, а также объяснения по каждому действию. В то же время, если подсудимый и его защитник оставляли предъявляемые доказательства без внимания, как это было, например, с делом Евглевского, рассматриваемым в Пензенском окружном суде в 1869 г., они лишались права жаловаться на стеснение своих прав [1].
В то же время судебная практика запрещала предоставлять слово подсудимому и его защитнику после заслушивания показаний, нескольких свидетелей. Подсудимый либо его защитник имели право отвечать на показания каждого свидетеля в отдельности. В 1874 г. кассационный департамент Сената признал действия председателя суда, который давал право отвечать обвиняемой в 1868 г. сразу на показания нескольких свидетелей, неправильными и отменил на этом основании вынесенный приговор [7, с. 44, 103].
Председатель суда имел право предлагать подсудимому вопросы по всем обстоятельствам дела. Сенат в 1871 г. отменил приговор Окружного суда на том основании, что председатель суда в ходе рассмотрения дела Трахтенберга и других подсудимых не уделил должного внимания рассмотрению по существу противоречий между показаниями обвиняемых, вскрытых на предварительном следствии, и данными в ходе судебного разбирательства [1, c. 125].
Судьи и присяжные заседатели должны были относиться к показаниям обвиняемого и свидетелей беспристрастно, ни в коем случае не должны были выражать ни свое мнение, ни свое отношение к происходящему. Если подобные факты и имели место, то это считалось нарушением процессуальных норм и кассационный департамент Сената в своем циркуляре мог указать на это, как это, например, имело место в 1869 г., как на серьезный недочет.
Демократичный характер судебного процесса проявлялся в том, что молчание подсудимого не могло быть истолковано как признание им своей вины.
В случае, когда подсудимых было несколько, председатель суда допрашивал их порознь, при этом использовался такой прием, как допрос либо в присутствии, либо в отсутствии соучастников, подозреваемых в совершении данного преступления. Конфликт между подсудимыми, даже в случаях, когда это было установлено судом, не являлся основанием к отмене приговора [2].
В судебной практике к прочтению, как правило, допускались следующие документы: акты врачебных осмотров потерпевших в результате преступления лиц, составленные по требованию следователя и с соблюдением правил; акты осмотров лесных порубок; протоколы освидетельствования подложных расписок; протоколы дознаний через окольных людей (свидетелей) о поведении подсудимых.
Практика работы окружного суда сталкивалась со случаями, когда подсудимые пытались затянуть работу суда, требуя зачитывания все новых и новых документов, как повторяющих по смыслу ранее озвученные, так и мало относящихся к делу. Сенат в ответ на обращения с мест разъяснил, что все документы на суде зачитывать и рассматривать не обязательно в случаях, если их содержание внесено в обвинительное заключение и их содержание известно заседателям.
Существовал также перечень документов, зачитывание которых категорически воспрещалось на судебном процессе: протоколы, составленные следователями с указанием мер, которые составляют следственную тайну (т. е. способствуют раскрытию преступления, например, сведения об осведомителях); постановления, подписанные следователями при передаче дела в суд; акты и бумаги, заключающие в себе показания обвиняемых; акты о возвращении украденного, данные потерпевшим лицом подсудимому, если они не внесены в протокол предварительного следствия; приговоры, вынесенные односельчанами (общинами) о поведении подсудимых; протоколы повальных обысков, составленные с нарушением установленных требований; отзывы подсудимого, написанные во время проведения следственных действий; указы Сената об утверждении определений коммерческого суда о признании подсудимых злостными банкротами; журналы заседания губернского правления и других присутственных мест; сообщения государственных органов о количестве денежных сумм, направляемых на пополнение растраты, и др.
Важная роль в судебном заседании отводилась документам, описывающим место совершения преступления. В чрезвычайных обстоятельствах, когда суд рассматривал дела, связанные с совершением особо тяжких преступлений, суд в узаконенном составе выезжал на место совершения преступления, где в установленном порядке проводилось судебное заседание.
За ведением протокола был обязан следить прокурор как лицо, ответственное за соблюдение законности в ходе судебного заседания.
В протоколах судебных заседаний отражалось участие прокурора и защитника записями о том, в каких случаях суд выносил решение, выслушав заключение прокурора или мнение сторон, когда они «возбуждали» вопросы к тем или иным лицам, а также за- являли ходатайства. Содержание их речей в прениях сторон в протоколе судебного заседания не отражалось.
В ходе проведения судебного заседания строго регламентировался и порядок работы с вещественными доказательствами. Так как их использование было исключительно важным для принятия судебного решения, они должны были храниться в зале заседания на специальных столах или в специальных помещениях, открытых для доступа.
Постоянно совершенствовался порядок судебного заседания в случае появления новых свидетельств по делу. В деле по обвинению Зайцева в Пензенском окружном суде, когда было объявлено о прекращении судебного следствия, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты по привлечению к суду новых доказательств невиновности подсудимого [3, д. 154].
Еще одним важным моментом было то, что по получению нового доказательства о невиновности подсудимого суд обязан был принять ясное и точное определение, иначе приговор мог быть отменен в ходе кассации [4, с. 165].
Имел место факт, когда в 1871 г. при рассмотрении дела по обвинению в совершении преступления защита подсудимого заявила, что к делу требуется приобщить переписку с неким уважаемым органом государственной власти, где содержатся факты, оправдывающие действия подсудимого. Суд был прерван на некоторое время, переписка была затребована и изучена, и суд в конечном счете вынес обоснованное решение [4, с. 165].
В судебной практике тех лет в работе окружных судов активно использовался институт гражданских истцов. Гражданину, который стремился к тому, чтобы суд признал обвиняемого, который причинил ему какой-либо вред и сделал его потерпевшим (либо членов его семьи и т. д.), суд предоставлял право для того, чтобы в ходе судебного заседания гражданский истец принял все меры, находящиеся в рамках закона, для того чтобы обвиняемый был осужден за совершенное им преступление. Именно свидетельства о причастности обвиняемого к убийству сына гражданского истца и его заинтересованности в этом убедили суд в виновности ответчика [4, c. 171].
Постоянно совершенствовались отношения суда с защитниками обвиняемых в ходе судебных заседаний. Постепенно по отношению к защитнику обвиняемого сложился закрепленный законом свод норм и правил его поведения в ходе судебного заседания, а также перечень тех средств воздействия на суд, которые могли быть в арсенале у защитника. Главной целью защитительной речи защитника (адвоката) было приведение тех доводов и обстоятельств, при помощи которых защитник должен был либо опровергнуть обстоятельства и доводы, на которых базировалось обвинение, либо ослабить его.
Защитнику было разрешено в судебных прениях в ходе заседания суда с участием присяжных упоминать только те законы, которые определялись свойством рассматриваемого преступления. От адвоката очень многое зависело в решении судеб обвиняемых.
Заключительные судебные прения в ходе уголовного процесса состояли из обвинительной речи прокурора или частного обвинителя, защитительной речи адвоката (защитника); объяснений самого подсудимого. Право первого слова всегда принадлежало прокурору или частному обвинителю.
Организовывались судебные прения в зависимости от того, какой был по сути судебный процесс: с участием либо без участия присяжных. Если суд проходил с участием присяжных заседателей, заключительные прения состояли из двух частей: до и после вынесения приговора присяжными.
Если дело рассматривалось без участия присяжных заседателей, то прения уже на две части не разбивались и касались как фактических вопросов по делу, связанных с установлением виновности подсудимого, так и обсуждения возможных мер наказания. Важное значение в ходе организации судебного процесса была речь председателя суда. В ходе подготовки к выступлению председатель дореволюционного окружного суда был обязан соблюдать несколько неукоснительных правил. Материалом выступления председателя суда могло быть исключительно то, что было предметом судебного следствия и прений сторон. По делу Григорьевой в 1869 г., когда председатель суда высказал свое отношение к совершенному преступлению, идущему вразрез с материалами дела, от вышестоящих инстанций он получил серьезное внушение от вышестоящих судебных инстанций [4, с. 103].
Председатель суда был главным лицом, ответственным за ход судебного процесса, хотя и находился под надзором прокурора. Он был обязан постоянно направлять ход судебного процесса в нужное русло. В случае, если стороны в ходе заключительных прений неправильно истолковывали или передавали обстоятельства уголовного дела, важнейшей обязанностью председателя было восстановление в своей речи истинного смысла этих обстоятельств [4, с. 235].
Каждое слово и выражение председателя должно быть отточено до совершенства, так как он не имел права на ошибку, потому что за любое неосторожное слово или выражение, сказанное председателем, неминуемо следовала жалоба в вышестоящую судебную инстанцию или в Сенат. Вторая часть речи председателя по неписаным правилам должна была быть посвящена толкованию законов, относящихся к квалификации (толкованию) совершенного преступления: существенные элементы преступления; законные признаки данного рода преступления, соответствующие различным его видам и степеням; обстоятельства, особо увеличивающие или уменьшающие степень виновности. Иногда судебные заседания Окружного суда носили закрытый характер.
Практика заседаний Окружного суда свидетельствовала, что за закрытыми дверями заслушивались дела, связанные с богохуле-нием, оскорблением святыни и порицанием веры; преступлениями, связанными с нарушением семейных прав; против чести и целомудрия женщин, а также о развратном поведении. Впоследствии за закрытыми дверями слушались дела об особо опасных антигосударственных преступлениях.
Выездные сессии Окружного суда делались достаточно продолжительными.
Окружной суд, как уже неоднократно упоминалось выше, исполнял обязанности съезда мировых судей и для разбора дел должен был выезжать в мировые округа.
В практике Пензенского окружного суда бывали случаи, когда судебные заседания назначались и проводились в уездах. Как правило, это случалось тогда, когда в уезде совершалось особо громкое преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Таким образом, в течение всей второй половины XIX в. в окружных судах совершенствовался порядок проведения судебного заседания. Все действия Окружного суда и в особенности судебные заседания проходили публично, также гласно проходили объяснения сторон, показания свидетелей, доклад дела, проверка доказательств, необходимое судебное следствие и другие судебные действия. Существовавшие же ограничения гласности судебных заседаний вызывались либо определенными условиями их проведения, либо характером самого дела. К подобным делам относились особо важные дела о государственных и особо тяжких преступлениях, а также дела, где затрагивались общественные нравственные устои.
В судебной практике тех лет активно использовался институт гражданских истцов. Гражданину, который стремился к тому, чтобы суд признан обвиняемого, который причинил ему какой-либо вред и сделал его потерпевшим, суд предоставлял право для того, чтобы в ходе судебного заседания гражданский истец принял все меры, находящиеся в рамках закона, для того, чтобы обвиняемый был осужден за совершенное им преступление. В ходе проведенного исследования выявлены особенности организации заключительных прений на заседаниях Окружного суда, которые состояли из обвинительной речи прокурора или частного обвинителя, из защитительной речи адвоката (защитника); объяснений самого подсудимого.
Список литературы Уголовный процесс в окружном суде России во второй половине XIX начале XX века
- ГАПО (Гос. арх. Пензенской области). Ф. 42. On. 1. Д. 7
- ГАПО. Ф. 42. Он. 5. Д. 10
- ГАПО. Ф. 25. Он. 2. Д. 154; Д. 165
- Калинкин Ю. А. Производство по уголовным делам в Окружных судах Российской империи/Ю. А. Калинкин. М.: Юрлитинформ, 2009. 207 с
- Немытина М. В. Применение судебных уставов 1864 г./М. В. Немытина//Буржуазные рефор мы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. С. 94-105
- Немытина М. В. Пореформенный суд в России: деформации основных институтов уставов 1864 г./М. В. Немытина//Правоведение. 1991. -№ 2. С. 101-105
- О производстве уголовных дел в окружных судах. Практическое руководство/сост. П. Л. Спасский//Журн. гражд. иушлов. права. 1883. -Кн. 7. -С. 10-151
- Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 3. 289 с