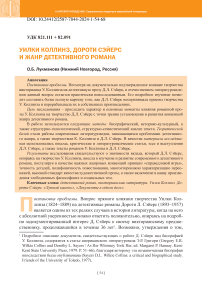Уилки Коллинз, Дороти Сэйерс и жанр детективного романа
Автор: Лукманова О.Б.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Современные тенденции европейской литературы
Статья в выпуске: 1 (26), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Несмотря на документально подтвержденное влияние творчества викторианца У. Коллинза на детективную прозу Д.Л. Сэйерс, в отечественном литературоведении данный вопрос остается практически неисследованным. Его подробное изучение позволит составить более полную картину того, как Д.Л. Сэйерс воспринимала приемы творчества У. Коллинза и перерабатывала их в собственных произведениях. Цель исследования - проследить характер и основные моменты влияния романной прозы У. Коллинза на творчество Д.Л. Сэйерс с точки зрения установления и развития конвенций жанра детективного романа. В работе используются следующие методы: биографический, историко-культурный, а также структурно-типологический, структурно-семиотический анализ текста. Теоретической базой стали работы современных литературоведов, занимающихся проблемами детективного жанра, а также творчеством К. Коллинза и Д.Л. Сэйерс. В качестве материала исследования использовались письма, критические и литературоведческие статьи, эссе и выступления Д.Л. Сэйерс, а также тексты романов У. Коллинза и Д.Л. Сэйерс. Результаты исследования свидетельствуют о значимости вклада, который Д.Л. Сэйерс, опираясь на творчество У. Коллинза, внесла в изучение и развитие современного детективного романа, постулируя в качестве важных жанровых конвенций принцип «справедливой игры», точность деталей, полифоничность повествования, многостороннюю характеризацию персонажей, высокий стандарт качества художественной прозы, а также включение в канву произведения злободневных философских и социальных тем.
Детективный роман, викторианская литература, уилки коллинз, дороти сэйерс, «Лунный камень», «Документы в одном деле»
Короткий адрес: https://sciup.org/144162909
IDR: 144162909 | УДК: 821.111 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-1-54-68
Текст научной статьи Уилки Коллинз, Дороти Сэйерс и жанр детективного романа
остановка проблемы. Вопрос прямого влияния творчества Уилки Коллинза (1824–1889) на детективные романы Дороти Л. Сэйерс (1893–1957) является одним из тех редких случаев в истории литературы, когда на него с абсолютной уверенностью можно ответить положительно, опираясь на подробно задокументированный интерес Д. Сэйерс к своему викторианскому предшественнику, продолжавшийся в течение 36 лет1. Возможно, утверждения о том,
1 Подробное описание документов, свидетельствующих о работе Д. Сэйерс над биографией У. Коллинза, содержится в статье американского литературоведа Э.Р. Грегори (Gregory E.R. Wilkie Collins and Dorothy L. Sayers / As Her Whimsey Took Her, ed. Margaret P. Hannay. Kent: Kent State University Press, 1979. P. 51–66), благодаря которому эта незаконченная биография впоследствии была опубликована (Sayers D.L. Wilkie Collins: a critical and biographical study. Friends of the University of Toledo, 1977).
что «ни одна литературная фигура не оказала столь непреходящего влияния на Дороти Сэйерс, как Уилки Коллинз» [Gregory, 1979, p. 7] и что «призрак Уилки Коллинза преследовал Дороти Сэйерс большую часть ее жизни» [Hanes, 2000, p. 59] (перевод с англ. здесь и далее наш, если не указано иначе. – О.Л. ), покажутся кому-то несколько преувеличенными, но то, что благодаря пристальному исследованию творчества У Коллинза «она стала куда лучшим романистом и литературным критиком» [Gregory, 1977, p. 13], пожалуй, можно считать доказанным. Именно к У. Коллинзу Д. Сэйерс апеллировала, защищая свои принципы работы в детективном жанре, именно его литературные приемы и открытия приводила в пример коллегам по цеху как золотой стандарт детективной прозы, именно о нем написала раздел в Кембриджской библиографии английской литературы и именно над его (к сожалению, так и не законченной) биографией работала начиная уже с 1921 г. Сама она просила, чтобы к ее собственному жизнеописанию биографы приступали не ранее чем через пятьдесят лет после ее смерти, так как «к тому времени мир успеет оценить, достаточно ли хороши ее книги, чтобы их читали и дальше» ( «good enough to survive» ) [Brabazon, 1982, p. xviii]. У Коллинз умер всего за четыре года до рождения Д. Сэйерс, и к тому моменту, когда замысел написать его биографию стал темой ее переписки, с его смерти прошло лишь чуть более тридцати лет, однако ни у Д. Сэйерс, ни у других ее современников не было сомнения в том, что У. Коллинз является классиком «золотого века мелодрамы» и его произведения благополучно «выжили» и, скорее всего, не утратят популярности, во-первых, потому что «мелодрама вечна, а значит, тяга к мелодраме вечна и потому должна быть удовлетворена», и, во-вторых, потому, что романы У. Коллинза представляют собой важный образец для современных писателей, «предлагая вопросы, которыми не может позволить себе пренебречь ни один автор, изучающий “искусство беллетристики”» [Eliot, 1950, p. 422, 431].
К 1931 г. Д. Сэйерс написала первые пять глав биографии У Коллинза, подробно повествуя о его родителях, детстве, школьных годах, семейных путешествиях, о дружбе с Ч. Диккенсом, а также о его ранних сочинениях и экспериментах с разными жанрами и стилями. По оценкам исследователей, этот текст составляет примерно четверть того, что было запланировано, и, несмотря на «незавершенность, неот-шлифованность и некоторую устарелость» этих черновых глав, они «являются… самым проницательным и, безусловно, самым тщательным критическим анализом творчества Коллинза, когда-либо сделанным, и если бы [Д. Сэйерс] довела свой замысел до конца в том масштабе, в котором начала, по полноте и объему переработанного материала эта книга превзошла бы любую биографию Коллинза, которая у нас есть на данный момент [1979 г.]» [Gregory, 1979, p. 56]. Исследователи отмечают точность наблюдений и выводов Д. Сэйерс, ее глубокое знание предмета, умение отделять важное от второстепенного и идентифицировать и описывать такие типичные черты коллинзовского повествования, как драматический инстинкт, стремление к достоверности, мастерство в разработке сюжетных линий и характеризации персонажей и принцип «справедливой игры»: те особенности творчества
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 1 (26)
У. Коллинза, которыми сама она больше всего восхищалась и которым стремилась подражать [Reynolds, 1997, p. 239]. Кроме того, она неизменно возвращалась к творчеству У. Коллинза в многочисленных аллюзиях на него и его произведения в собственной прозе, в своем предисловии к изданию «Лунного камня» и во введениях к сборникам детективных рассказов, а также в критических эссе, посвященных детективному жанру и общим принципам художественного творчества, подчеркивая, что для того, чтобы «выжить», современный детективный роман должен отойти от шаблона чисто интеллектуальной загадки и «вернуться к своим истокам под пером У. Коллинза и Ш. Ле Фаню и снова стать романом о нравах ( a novel of manners) » [Sayers, 1946, p. 209]. Соответственно, подробное и тщательное изучение того, каким образом и в какой степени Д. Сэйерс воспринимала, оценивала и описывала принципы и приемы творчества У. Коллинза, перерабатывая их в собственных художественных и критических произведениях, позволит не только создать более полную картину ее литературных предпочтений и увидеть траекторию ее становления как романиста и критика, но и точнее отражать особенности ее идиостиля в русских переводах ее произведений.
Цель статьи – проследить характер и основные моменты влияния романной прозы У. Коллинза на детективные романы Д.Л. Сэйерс с точки зрения установления и развития конвенций детективного жанра и, в частности, рассмотреть, как именно принципы и приемы творчества У. Коллинза отразились и преломились в самом «коллинзовском» романе Д. Сэйерс «Документы в одном деле» ( The Documents in the Case , 1930)2.
В работе используются следующие методы: биографический, историко-культурный, структурно-типологический, структурно-семиотический анализ текста.
Обзор научной литературы . Так как в отечественном литературоведении творчество Д.Л. Сэйерс остается сравнительно малоизученным, основной теоретической базой настоящей работы стали труды ведущих зарубежных исследователей ее творчества: Б. Рейнольдс, К. Колóн, К. Даунинг, Дж. Барбазона, К. Кенни, Э.Р. Грегори и др., работы отечественных литературоведов П.А. Моисеева и А.Л. Борисенко по исследованию викторианского детектива, художественных особенностей детективного жанра и некоторых особенностей детективной прозы Д. Сэйерс, а также статьи и пояснительные материалы А.Л. Борисенко к русским переводам ряда романов Д. Сэйерс, выполненным в рамках семинара по художественному переводу на филологическом факультете МГУ, которые на данный момент являются наиболее полными и качественными именно благодаря тщательному изучению биографии писательницы и принципов ее художественного творчества. В качестве материала исследования использовались письма, критические и литературоведческие статьи, эссе и неопубликованные рукописи выступлений Д.Л. Сэйерс , а также тексты романов У. Коллинза и Д.Л. Сэйерс.
Результаты исследования . Выбрав жанр детективного романа в качестве основного в начале творческого пути, Д. Сэйерс нередко вынуждена была защищать свой выбор как от критиков, считавших любые детективы плохо написанной «сублитературой», «ерундой» и «пустой тратой бумаги» [Wilson, 1955, p. 261, 264–265], так и от тех, кто критиковал конкретно ее работу за то, что, не ограничиваясь низкопробным стремлением написать простой детектив, она явно и сознательно стремилась к литературности, и благодаря этому ее романы пользовались успехом у образованных и эрудированных читателей. Интересно отметить, что, защищая и собственные книги, и детективный жанр в целом, Д. Сэйерс делает упор не столько на литературное качество своих произведений, сколько на то удовольствие, которое читатели должны получать от чтения детективов, и отмечает, что некоторые пуритански настроенные критики склонны принижать те произведения, которые нравятся широкой аудитории, автоматически объявляя их низкопробными и не достойными того, чтобы называться серьезной литературой. Д. Сэйерс не скрывает своей цели «развлечь» читателя, апеллируя при этом к великим викторианцам, Ч. Диккенсу и У. Коллинзу, открыто стремившимся, чтобы их книги читала как можно более широкая публика; она с готовностью и даже некоторой гордостью принимает на себя роль «писателя для среднего человека» ( a middlebrow writer ) и «пишет для массовой аудитории, одновременно заставляя ее проникать в суть обсуждаемой темы и в характеры персонажей гораздо глубже, чем это, строго говоря, необходимо для того, чтобы книга пользовалась успехом» [Colón, 2019, p. 18].
Позднее в эссе «Поэзия поиска и поэзия утверждения» ( The Poetry of Search and the Poetry of Statement , 1963), посвященном поэтике Данте, Д. Сэйерс отмечала, что «обращаться к аудитории и писать для аудитории» ( writing to an audience and writing for an audience ) (выделено автором. – О.Л. ) – это не одно и то же: «Художник доносит до публики то, к чему устремлено его желание, чем восхищается он сам и о чем хочет рассказать; он не должен в первую очередь руководствоваться желаниями публики или давать людям то, что для них полезно – иначе получится не искусство, а... “псевдоискусство”, либо чисто коммерческое развлечение, либо дидактическая литература в самом плохом смысле этого слова» [Sayers, 1963, p. 15]. И здесь тоже в качестве образца оптимального баланса между необходимостью апеллировать к массовой аудитории и желанием вывести читателя за рамки чисто механической загадки детектива или мелодрамы сенсационного романа, заставив его задуматься о более глубоких истинах, Д. Сэйерс вновь обращается к викторианцам, и прежде всего к У. Коллинзу. Вслед за Т.С. Элиотом, призывавшим избавиться от ложной дихотомии между «высокой» ( highbrow ) литературой и непритязательной ( lowbrow ) детективной прозой и ссылавшимся на викторианцев как на «золотой век мелодраматической литературы, где такого различения не было» [Eliot, 1969, p. 409], она усматривает в У. Коллинзе, «которого читали во всех буфетных страны», пример преодоления этого разрыва, восхищаясь его умением выразить «душу самого обыкновенного
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 1 (26)
человека… на благородном языке», и призывает коллег по цеху не «оставлять простых людей на милость плохих писателей», так как «эмоции обычного человека вполне достойны того, чтобы выражать их со всем умом, со всей честностью и со всей тонкостью, на которые только способен писатель», и «писатель, который слишком высокомерен или привередлив, чтобы иметь дело с такими пошлостями, как рождение, любовь, смерть, голод, горе, романтика и героизм, никогда не сможет войти в число великих» [Sayers, 1936, DLS/MS-118].
Таким образом, «сознательная литературность», в которой критики обвиняли Д. Сэйерс, состояла не только в том, что в ее текстах «слишком много эпиграфов из Шекспира, Спенсера и других давно умерших писателей-мужчин» [Lermitte, 2021, web], но и в том, что она, следуя примеру тех викторианцев, которыми восхищалась, последовательно придерживалась самых высоких литературных стандартов в плане языка, а также тщательно исследовала детективную форму как в ее историческом становлении, так и в современном преломлении, сознательно создавая свои произведения так, чтобы способствовать дальнейшему развитию жанра. Она подробно писала о корнях детективной традиции в предисловиях к отдельным частям трехтомной антологии «Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror » (1928, 1931, 1934), рецензировала современные детективные романы и триллеры для газеты Sunday Times с июня 1933 по август 1935 г., и, по словам ее биографа Дж. Брабазона, «пожалуй, ни один другой автор, работавший в этом жанре, не думал о природе и цели детективного романа так серьезно и тщательно, как она» [Brabazon, 1982, p. 126]. Д. Сэйерс прекрасно понимала, что авторы, работающие в детективном жанре, должны следовать устоявшимся конвенциям и, даже нарушая их, не заходить слишком далеко, чтобы не оттолкнуть читателей, а поскольку многие из этих жанровых конвенций были установлены и закреплены именно в произведениях У. Коллинза, которого он называла «отцом современного детектива» [Sayers, 1977, p. 68], У. Коллинз и его романы практически всегда так или иначе упоминаются в ее рассуждениях о детективном жанре, и не только.
В своих выступлениях и эссе Д. Сэйерс нередко обращается к У. Коллинзу и его произведениям, чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль или показать механизм и эффект того или иного литературного приема. Например, в лекции «Аристотель и детектив» (Aristotle and the Detective Fiction, 1935) она отмечает, что в романе У. Коллинза «Без права на наследство» (No Name, 1862) читатель, даже заранее зная преступника, не теряет интереса к происходящему благодаря тому, что автор поочередно показывает действия и решения то детектива, то преступника, а описание Зыбучих песков в «Лунном камне», как и любой нарочито витиеватый пассаж (purple passage) в детективном романе, «содержит важный ключ к разгадке, который нельзя ни опустить, ни перенести в другую часть повествования» [Sayers, 1947, p. 118]. В художественных текстах Д. Сэйерс аллюзии на У. Коллинза отличаются характерной для нее «высокофункциональностью» (термин Э.Р. Грегори). Когда писатель Джон Мантинг, персонаж эпистолярного романа Д. Сэйерс «Документы в одном деле» (Documents in the Case, 1930), сравнивает себя с добродушной, но глуповатой миссис Мерридью, не способной представить себе эксперимент без взрыва и всегда желающей заранее знать, когда он будет, эта аллюзия не только подчеркивает склонность героя к эрудированной самоиронии, но и проводит параллель с «Лунным камнем», по образцу которого Д. Сэйерс сознательно конструировала свой роман. Когда в романе «Пять отвлекающих маневров» (The Five Red Herrings, 1931) лорд Питер замечает, что дело, которое он пытается распутать, «напоминает сюжет романа Уилки Коллинза, где все происходит слишком поздно, чтобы история завершилась счастливым концом», Д. Сэйерс тем самым «остроумно напоминает читателю, что перед ним – образец сознательно выстроенной художественной прозы, а не скопированный кусок необработанной информации из жизни» [Gregory, 1979, p. 57] и в какой-то степени обозначает принципы своей отчетливо христианской, тринитарной эстетики, подразумевавшей автономность искусства в том смысле, что «подлинное произведение искусства всегда является чем-то новым, а не просто копией или репрезентацией чего-либо другого» [Sayers, 2004, p. 159].
Кристин Колóн, исследуя роман Д. Сэйерс «Девять ударов за упокой» ( The Nine Tailors, 1934), в котором, как она считает, писательнице «лучше всего удалось достичь равновесия между чисто интеллектуальной детективной загадкой и серьезной литературой» [Colon, 2019, p. 93], указывает на целый ряд художественных стратегий, которые, по ее справедливому мнению, Д. Сэйерс напрямую заимствует у У. Коллинза с целью выстроить оптимальный баланс между конвенциями детективного романа и размышлениями о «тайнах жизни», а именно: принцип выбора типа преступления и жертвы; неожиданный поворот сюжета; открытый конец при успешном завершении детективного дела; и наконец, многофункциональность характеризации персонажей. Наиболее наглядно прямое влияние У. Коллинза на работу Д. Сэйерс можно увидеть в том, как она сама идентифицирует, описывает, а затем применяет в собственных произведениях те художественные приемы его творчества, которые, по ее мнению, во-первых, являются необходимыми жанровыми конвенциями качественного детективного романа и, во-вторых, помогают решить те основные проблемы, из-за которых детективные романы некоторых ее современников не дотягивали до уровня серьезной литературы. Здесь прежде всего необходимо обратиться к тому, что Д. Сэйерс непосредственно говорит о жанровых приемах У. Коллинза, и особенно о том, как они воплощаются в его знаменитом «Лунном камне», а также к ее наиболее очевидно «коллинзовскому» произведению «Документы в одном деле» (1930), где она сознательно и планомерно следует его художественным принципам и использует его открытия в жанре детективного и сенсационного романа.
Вторя Т.С. Элиоту, называвшему «Лунный камень» «первым и величайшим из английских детективных романов» [Eliot, 1950, p. 424], Д. Сэйерс писала: «Пожалуй, это один из лучших детективов, когда-либо написанных… По сравнению с его масштабностью, его плотно подогнанной завершенностью, его чудесным
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 1 (26)
многообразием и целостностью образов персонажей современные романы кажутся плоскими и механическими» [Sayers, 1929, p. 25]. Стремясь «поднять статус детективного жанра… до уровня респектабельного мастерства с претензиями на серьезное к нему отношение» [James, 1996, p. xi, xiv], Д. Сэйерс следовала примеру У. Коллинза, прежде всего в том, чтобы создавать полноценный художественный мир, населенный убедительно написанными, живыми персонажами. «Его объединяло с другими романистами своего времени одно замечательное качество – умение придумывать просторный мир, населенный интересными и занимательными людьми, – писала она в одном из критических эссе. – Правда, это мир лишь относительно просторный: деловой, профессиональный мир среднего класса с небольшими вкраплениями писателей и художников; в нем нет ни знати, ни модного общества, ни государственных деятелей, ни университетов, ни даже церкви; он мало знаком с “кипящей, убогой, яркой жизнью демократии”. Но в своих пределах это богатый и насыщенный мир. Открыть “Лунный камень” после современного детектива – значит вырваться с узкой искусственной сцены в многолюдную реальность рыночной площади. Люди у Коллинза существуют не только для того, чтобы делать ходы на шахматной доске интриги; они явно давно и полноценно существуют вне сюжета, через который проходят; это цельные персонажи, живущие в реальном мире. Одним словом, Коллинз – писатель с подлинным творческим воображением, и именно это, помимо его “классического” вклада в развитие детектива, придает его творчеству… непреходящую литературную ценность» [Sayers, 1944, p. xi].
Неудивительно, что роман Д. Сэйерс «Документы в одном деле», который Г. Хейкрафт называет «прямым пересказом “Лунного камня”» [Haycraft, 1984, p. 137], является ключевым в ее творчестве, так как именно здесь она впервые смогла отойти от шаблона детектива как чисто интеллектуальной загадки и писать так, «чтобы критика жизни не сводилась к случайным наблюдениям и зарисовкам характеров, а была, как и положено, частью сюжета» [Sayers, 1946, p. 209]. «Мне очень хотелось бы в качестве эксперимента написать книгу в виде серии нарративов от первого лица, а ля Уилки Коллинз, – писала она своему соавтору и научному консультанту Роберту Ю. Бартону. – Это будет что-то совсем новое, но мне кажется, у меня должно получиться» [Sayers, 1996, p. 288]. Поскольку «из всех литературных форм личные письма нередко лучше других раскрывают читателю личность их автора, особенно когда они не предназначались для публикации» [James, 1996, p. xii], форма эпистолярного романа позволяла Д. Сэйерс не только создать целую галерею разных и во многом контрастных персонажей, каждого со своим неполным, но абсолютно органичным, целостным и уникальным видением реальности и себя в этой реальности, но и посредством их полифоничной переписки «не спеша рассматривать сложные вопросы взаимоотношения полов, политики брака, границ личной ответственности, роли искусства, науки и религии в современном мире» [Kenney, 1990, p. 48]. Надо отметить, что модель «Лунного камня» также позволяет ей на время отставить в сторону своего блестящего, но на тот момент достаточно шаблонного детектива лорда Питера: чтобы он мог стать «полноценным человеком, с прошлым и будущим, с последовательной семейной и социальной историей, со сложной психологией и даже зачатками религиозного мировоззрения», нужно было изъять его из оборота и сделать ему «деликатную и сложную» операцию [Sayers, 1946, p. 211].
Отмечая сознательное обращение Д. Сэйерс к литературным приемам У. Коллинза, Г. Хейкрафт усматривает в этом романе «изящно выполненную дань его [У. Коллинза] повествовательному методу»: «Коллинз, не создав действительно новой формы, по сути дела, написал полноценный роман в духе своего времени, используя мотив детективного расследования как катализатор для смешения сложных ингредиентов – как другой автор той же эпохи мог бы использовать, например, мотив любовной интриги или мести... Коллинз выбрал совместимые элементы… воплотив свою тему в уже существующей форме, но не создавая при этом новый тип литературы. История кражи Желтого алмаза и его судьба – это уже идеальный сюжет для детектива, но это лишь часть романа, пусть даже важная и неотъемлемая. Расследование – это чернослив в рождественском пудинге, но еще не весь пудинг… Детектив у Коллинза является не главным, а лишь второстепенным участником драмы… Как это ни парадоксально, ведущей тенденцией современного детектива… является отход от жестких жанровых формул в пользу смешения элементов детектива с романом о нравах в том же духе, что у Коллинза… Более того, “Лунный камень” напрямую пересказан в нескольких современных произведениях, в том числе в двух лучших детективных романах нашего поколения: “Документах одного дела” Дороти Сэйерс и в “Плаче по создателю” Майкла Иннеса. Как все возвращается на круги своя!» [Haycraft, 1984, p. 39].
Интересно отметить, что Д. Сэйерс, которая в предисловии к первой части антологии « The Omnibus of Crime» (1929) предсказывала традиционному детективному роману «истощение и окончательное опустошение», в своем экспериментальном романе попыталась вдохнуть в жанр новую жизнь, возвращаясь именно к классической модели У. Коллинза, в которой «благодаря искусному владению особенностями формы и содержания необходимая [для разрешения загадки] завершенность детективного повествования... тем не менее открывает возможности для более широкого тематического резонанса и придает роману сенсационность и более глубокий смысл» [Colón, 2019, p. 101]. Собирая разные точки зрения, представленные в гетерогенных текстах, в единое гомогенное рамочное повествование, Д. Сэйерс, подобно У. Коллинзу, одновременно и создает детективную интригу, и выходит далеко за ее пределы, точно так же используя детективный мотив в качестве «катализатора для смешения разных элементов» [Colón, 2019, p. 130]. Более того, она представляет реальность куда более сложной и многогранной, чем У. Коллинза. Сравнивая общую структуру «Лунного камня» с «рядом зеркал, в которых отражаются другие зеркала, так что ни одно из них напрямую не отражает полноту реальности», Уильям Х. Маршалл считал, что здесь
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 1 (26)
«как, пожалуй, ни в каком другом викторианском романе, предвосхищается будущая фрагментация современного человека» [Marshall, 1970, p. 81, 85]. Насколько очевидным это измерение повествования «Лунного камня» было и остается для его читателей, сказать трудно, но метафизическая составляющая «Документов в одном деле» является одной из центральных его тем: Барбара Рейнольдс, биограф и близкий друг Д. Сэйерс, считала самой важной и самой блестящей частью романа кульминацию, где «луч света – рука Божья – наука, жизнь, истина – “свет, скользивший по водам Хаоса”, каким-то образом сформировал первый асимметричный атом на поверхности бездны, – чтобы потом, через миллионы веков, он уличил преступника в содеянном» [Reynolds, 1997, p. 222]. Способность света выявлять истинную природу органического и неорганического вещества становится одновременно механизмом разгадки преступления и поводом ввести в повествование глубокие философские и богословские рассуждения о происхождении жизни, современных научных открытиях, Божьем возмездии за убийство и даже о сущности любовных отношений.
Называя «любовный интерес» в числе отличительных особенностей коллин-зовских романов, здесь Д. Сэйерс вводит в свое повествование сразу три любовные линии и затем через тройную асимметрию этих пар (несчастливых в своем взаимном эгоизме супругов Харрисон; неупорядоченной страсти между художником Латомом и миссис Харрисон; здоровой, уравновешенной любви между Джоном Мантингом и его невестой) показывает, как свет истины, в конечном итоге проливаемый на все эти взаимоотношения, выявляет их подлинную сущность. Э.Р. Грегори, опираясь на вышеупомянутую метафору зеркала у У. Коллинза, указывает, что в романе Д. Сэйерс неоднократно используется еще более сложная метафора призмы, отражающей, собирающей и преломляющей свет разными гранями и меняющей интенсивность сияния в зависимости от источника света и угла падения луча. В каком-то смысле эту метафору можно применить и к самому роману, который при всей завершенности формы остается удивительно открытым для восприятия и толкования с разных точек зрения, и его персонажи также оказываются куда более амбивалентными, органически «асимметричными», а значит, живыми: убитый любовником жены Харрисон предстает перед читателем одновременно и тонким ценителем красоты и порядка, и грубоватобесчувственным сухарем; почти невыносимо глупая, сексуально озабоченная и постепенно теряющая здравомыслие старая дева мисс Милсом неожиданно трезво судит о семейных отношениях Харрисонов, а Джон Мантинг, называющий себя циником, «колеблемым и носимым всяким ветром учения», на самом деле придерживается вполне традиционной морали, смущается от собственной приверженности к мещанской респектабельности и, невольно оказавшись в роли орудия правосудия, мучается от того, что преступником оказался старый школьный приятель, обладающий к тому же немалым талантом художника, которым Мантинг не может не восхищаться.
Еще одним неотъемлемым компонентом качественной детективной прозы для Д. Сэйерс было то, что сама она назвала «романтикой точной детали» ( «the romance of accurate detail» ), вкупе со «скрупулезным следованием “правилу справедливой игры” (“ Fair Play Rule” )» [Sayers, post-1936, MS-49], согласно которому читателю предоставляются все необходимые подробности для решения детективной загадки, но он сам должен решить, какие детали значимы, а какие нет. «Чтобы с самого начала привлечь внимание читателя и заставить его поверить в самые поразительные части повествования, любой писатель, знающий свое дело, должен стремиться к максимальному и максимально точному реализму в подробностях происходящего “в рамках собственного опыта читателя”», – писала она в незаконченной биографии У. Коллинза [Sayers, 1977, p. 80]. Для Д. Сэйерс эта точность деталей была еще и способом «укрепить доверие к автору, углубить отношения между ним и читателем, уверив последнего, что автор играет по правилам», и она восхищалась умением У. Коллинза «укрепить доверие читателей к автору, давая им понять, что все те подробности, намеки и подсказки, которые они заметили в повествовании, не пропадут даром» [Colón, 2019, p. 90–91]. Следуя его примеру, Д. Сэйерс вводила в свои произведения выверенные реалистичные детали, чтобы придать повествованию ощущение правдоподобия. Тщательность предварительной работы при написании даже популярных романов были важной чертой ее мировоззрения и художественного кредо, так что, обсуждая детали «Документов в одном деле» со своим соавтором и научным консультантом Ю.Р. Бартоном, Д. Сэйерс старалась максимально уточнить и подтвердить научные и медицинские факты, лежащие в основании сюжета, неоднократно повторяя, что «Коллинз всегда старался подкреплять свои медицинские утверждения авторитетными мнениями» [Sayers, 1996, p. 280], и подчеркивая его «скрупулезную точность в плане медицинских, юридических и полицейских деталей» [Sayers, 1944, p. vi]. На следующий день после завершения романа она, по своему обыкновению, отправилась в читальный зал Британского музея, чтобы вставить в текст аллюзии на реальные происшествия из газет описываемого в романе периода, да и сама любовная коллизия «Документов в одном деле» была частично основана на знаменитом судебном процессе 1922 г. по делу Эдит и Фредерик Томпсон и Байуотерс, британской пары, казненной за убийство мужа Томпсон, включая тот факт, что переписка между любовниками стала на суде важной вещественной уликой. Кроме того, Д. Сэйерс привносила в художественный вымысел фактические детали из собственной жизни, и «эта тенденция, заметная с самого начала, возрастала и углублялась с каждым новым романом» [Reynolds, 1996, p. 178]. В частности, характер и судьба мисс Агаты Милсом основаны на истории машинистки, «которая последние пару лет вела себя все более и более нелепо (ее симптомы включают маниакальное пристрастие к копченой селедке, неудержимое желание глазеть на витрины магазинов, сексуальную одержимость, неспособность принимать решения и безудержное тщеславие – и все это якобы из-за подавленных желаний и “женской перемены”)» [Sayers, 1996, p. 278].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 1 (26)
Наконец, подобно тому, как У. Коллинз и Ш. Ле Фаню «никогда не представляли сюжет как нечто изолированное и существующее исключительно ради раскрытия детективной загадки... [но] были заинтересованы в социальном измерении, в обычаях и нравах… и, так или иначе, предлагали некую “критику жизни”» [Sayers, 1936, p. ix], Д. Сэйерс использовала подробности детективного романа для того, чтобы сообщать читателю истины о современном ему мире. Н.Р.Ф. Китинг проводил параллель между У. Коллинзом и Д. Сэйерс в плане использования «одновременного письма» («Когда вы рассказываете читателям простую историю, но при этом незаметно для всех снабжаете их материалом для глубокого размышления над какой-то из вечных человеческих дилемм» [Keating, 1993, p. 129]), а «королева романов о преступлениях» Ф.Д. Джеймс писала, что из художественных произведений Дороти Л. Сэйерс, Агаты Кристи, Марджери Аллингем и Найо Марш «о той Англии, в которой они жили и работали, можно узнать куда больше, чем из большинства научно-популярных книг по социальной истории, – особенно в том, что касается статуса женщины между Первой и Второй мировой войнами» [James, 2009, p. 81]. В этой связи интересно отметить, что, помимо всего прочего, Д. Сэйерс выделяет способность У. Коллинза создавать женские образы так, чтобы привлечь внимание читателя к «желанию женщины быть личностью самой по себе, а не просто дополнением к мужчине» [Sayers, MS-240], и на примере Мэриан Голкомб («Женщина в белом»), Магдален («Без права на наследство») и Лидии Гвилт («Армадэль») показывает, насколько он разделял убеждения феминистов, считающих, что «для любого разумного существа – настоящая катастрофа, когда его насильно загоняют в состояние беспомощного бездействия» [Sayers, MS-240]. Тема женщины как самостоятельной творческой личности вне чисто декоративной роли преданной жены, беспомощной кокетки или идеальной секретарши является одной из основных в творчестве Д. Сэйерс, и в дальнейшем в ее романе «Возвращение в Оксфорд» ( Gaudy Night, 1935) вопросы гендерных ролей и социальных конструктов фемининности и маскулинности лягут в основу главной коллизии. Однако уже в «Документах в одном деле» она проводит контраст между невестой Джона Мантинга, которая посредством творческой работы на равных с будущим супругом сохраняет трезвомыслие и уравновешенность, и вынужденной и потому пагубной бездеятельностью как миссис Харрисон (которую, сам того не подозревая, подавляет муж-консерватор, так что вся ее животная сила устремляется в русло внебрачной любовной связи), так и несчастной мисс Милсом, принадлежащей к той «армии старых дев», которые в то время оставались в обществе практически не востребованными и, не имея возможности продуктивно применить свои немалые умственные и физические ресурсы и сублимировать нерастраченную сексуальность, нередко оказывались в самом бедственном положении, как финансовом, так и моральном.
Выводы. Пристальное изучение критических работ и детективных романов Д. Сэйерс с точки зрения ее сознательной опоры на творчество викторианских романистов, и в частности У. Коллинза как «отца детективного жанра», позволяет обозначить ряд художественных принципов и особенностей детективной прозы, которые писательница выделяла в качестве «золотого стандарта» жанра, последовательно применяя и развивая их в собственных произведениях с целью поднять «низкий» детективный жанр до уровня серьезной литературы, а именно: занимательность и адресованность «среднему читателю» наряду с высоким качеством литературной прозы; принцип «справедливой игры»; точность, достоверность и научную обоснованность деталей; психологическую правдоподобность и многофункциональность характеризации персонажей; завершенность детективного сюжета вкупе с открытым концом, открывающим возможности для более широкого тематического резонанса; а также введение в сюжетную канву детективного романа любовной линии и широкого спектра философских, теологических, социальных и иных проблем. Знание этих принципов позволит отечественным литературоведам более полно и объективно оценивать место и роль Д. Сэйерс в истории английской и мировой литературы и ее вклад в развитие детективного жанра, а также поможет переводчикам ее произведений на русский язык обращать особо пристальное внимание на важные художественные особенности ее прозы.
Список литературы Уилки Коллинз, Дороти Сэйерс и жанр детективного романа
- Brabazon J. Introduction / J. Brabazon. Dorothy L. Sayers: A Biography. HarperCollins Publishers, 1982. P. xvii-xviii.
- Colón C. Writing for the Masses: Dorothy L. Sayers and the Victorian Literary Tradition. Routledge, 2019. 246 p.
- Eliot T.S. Wilkie Collins and Dickens // T.S. Eliot. Selected Essays, 1917-1932. New York: Harcourt, Brace & World, Inc. 1969. P. 409-419.
- Gregory E.R. Introduction // Sayers D.L. Wilkie Collins: A Critical and Biographical Study. Toledo, Ohio: The Friends of the University of Toledo Libraries. 1977. P. 7-24.
- Gregory E.R. Wilkie Collins and Dorothy L. Sayers // As Her Whimsey Took Her, ed. Margaret P. Hannay. Kent: Kent State University Press, 1979. P. 51-66.
- Hanes S.R. The Persistent Phantom: Wilkie Collins and Dorothy L. Sayers // The Wilkie Collins Society Journal: New Series, 2000, Vol. III. P. 59-66. URL: https:// wilkiecollinssociety.org/the-persistent-phantom-wilkie-collins-and-dorothy-l-say-ers/ (дата обращения: 26.12.2023).
- Haycraft H. Murder for Pleasure: The Life and Times of the Detective Story. Bilbo and Tannen, 1984. 409 p.
- James P.D. Preface // The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899 to 1936: The Making of a Detective Novelist. New York: St. Martin's Press, 1996. P. xi-xiii.
- James P.D. Talking About Detective Fiction. Bodleian Library, Oxford, 2009. 163 p.
- Keating H.R.F. Dorothy L.'s Mickey Finn // D.L. Sayers: The Centenary Celebration. Dale A.S. (ed). Walker and Company, New York, 1993. P. 129-138.
- Kenney C.M. The Remarkable Case of Dorothy L. Sayers. Kent State University Press, 1990. 327 p.
- Lermitte J. Why I Read Dorothy L. Sayers // Radix Magazine, Berkley, CA. Vol. 42. No. 2, Fall 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.radixmaga-zine.com/2021/11/09/why-i-read-sayers/ (дата обращения: 26.12.2023).
- Marshall W.H. Wilkie Collins. New York: Twayne, 1970. 159 p.
- Reynolds B. Dorothy L. Sayers: Her Life and Soul. New York: St. Martin's Griffin, 1997. 398 p.
- Sayers D.L. Gaudy Night // The Art of the Mystery Story: A Collection of Critical Essays. Howard Haycraft, ed. Simon & Schuster, New York, 1946. P. 208-221.
- Sayers D.L. Introduction // Tales of Detection. J.M. Dent and Sons LTD, London, 1936. P. vii-xiv.
- Sayers D.L. Introduction // W. Collins, Moonstone. J.M. Dent and Sons LTD, London, 1944. P. v-xi.
- Sayers D.L. Introduction // W. Collins, Moonstone. J.M. Dent and Sons LTD, London, 1944. P. v-xi.
- Sayers D.L. Towards a Christian Esthetic // D.L. Sayers. Letters to a Diminished Church. Thomas Nelson, 2004. P. 147-170.
- Sayers D.L. Lecture: The Craft of Detective Fiction (II). Post-1936. DLS/MS-49, The Marion E. Wade Center, Wheaton College, Wheaton, IL.
- Sayers D.L. Lecture: The Importance of Being Vulgar, February 12, 1936, DLS/ MS-118, The Marion E. Wade Center, Wheaton College, Wheaton, IL Sayers D.L. The Poetry of Search and the Poetry of Statement // D.L. Sayers. The Poetry of Search and the Poetry of Statement. London: Gollancz, 1963. 287 p.
- Sayers D.L. The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899 to 1936: The Making of a Detective Novelist. New York: St. Martin's Press, 1996. 421 p.
- Sayers D.L. Unpopular Opinions. Victor Gollancz LTD, London, 1947. 196 p.
- Sayers D.L. Wilkie Collins: 1824-1889, DLS/MS-240. The Marion E. Wade Center, Wheaton College, Wheaton, IL.
- Sayers D.L. Wilkie Collins: a critical and biographical study. Friends of the University of Toledo, 1977. 120 p.
- Wilson E. Classics and Commercials: A Literary Chronicle of the Forties. Farrar, Straus, 1955. 534 p.