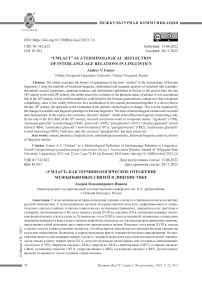"Умлаут" как терминологическое отражение межъязыковых связей в лингвистике
Автор: Иванов А.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории вхождения термина «умлаут» в терминологическую систему русской лингвистики. С использованием методов историко-лингвистического, дефиниционного и семантического анализа учебных и научно-теоретических источников (грамматик, грамматических трактатов и словарей), опубликованных в России в период с конца XVIII до середины XX в., автор прослеживает эволюцию фонетического статуса умлаута. Установлено, что в XVIII веке в русле традиций, заложенных создателями грамматик немецкого языка, умлаут считался дифтонгом, поскольку, согласно распространенному мнению, представляет собой сочетание двух совместно произносимых звуков. Показано, что в конце XVIII века подход к оценке статуса умлаута начинает меняться, что объясняется сменой научно-лингвистической парадигмы в русском языкознании. Выявлены и охарактеризованы факты терминологического варьирования. На протяжении своего существования термин «умлаут», который закрепился в русской лингвистической терминологии только к концу первой трети XX века, получил несколько однословных или составных наименований: «оголосок» (1799), «перемена гласных» (1844), «перезвук» (1845), «перегласовка» (1857), «слияние гласных» (1864), «изменение гласной» (1871), «перегласование» (1882), «суживание гласных» (1895). До настоящего времени сохраняется только синоним «перегласовка».
Умлаут, фонетика, лингвистический термин, терминологическая семантика, историко-лингвистический анализ, история лингвистических учений
Короткий адрес: https://sciup.org/149143722
IDR: 149143722 | УДК: 81’342.622 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.2.6
Текст научной статьи "Умлаут" как терминологическое отражение межъязыковых связей в лингвистике
DOI:
Статья посвящена изучению истории лексемы «умлаут», которая входит в состав терминологической системы русской лингвистики. Автор ставит целью описать историю ее вхождения в лингвистический обиход, выявить возможные параллельные названия этой лексической единицы, проследить эволюцию фонетического статуса умлаута.
«Умлаут» как лингвистический термин, используемый для обозначения живых и исторически обусловленных чередований гласных, появился в немецкой лингвистике, что очевидным образом вытекает из фонетического облика самого этого слова. Авторство термина принадлежит Ф. Клопштоку, который первым использовал его в 1774 году 1. До Клопштока умлаутные буквы специального названия не имели; в источниках, как правило, описывался способ артикуляции звуков, которые этими буквами передавались на письме, и их характеристика, в рамках которой умлауты рассматривались либо как дифтонги или полудифтонги, либо как монофтонги. Такое описание последовательно применялось в течение длительного времени в немецких грамматиках. Письменная фиксация умлаутов также не была унифицирована. По аналогии с грамматиками, изданными в Германии, составлялись грамматики немецкого языка и для русского читателя вне зависимости от того, кто выступал автором: носитель языка или русский автор (переводчик). В этих грамматических сочинениях умлаут всегда описывался в соответствии с немецкой лингвистической традицией.
Каких-либо иных наименований, кроме собственно самой лексемы Umlaut, данное понятие в немецкой лингвистике практически не получило (если не считать лексемы Veraͤnderung, обладающей исключительно широкой семантикой и на роль термина не претендующей), чего нельзя сказать о названиях умлаута, использовавшихся в русской германистике. Номинация «умлаут» входит в лингвистический обиход в конце первой четверти XX века. До этого времени встречается целый ряд номинаций, из которых только одна до сих пор сохраняет статус конвенционального синонима 2.
Материал и методы исследования
Материалом исследования выступают грамматики немецкого языка, грамматические сочинения и словари, опубликованные в России в период с конца XVIII до середины XX века. Научно-теоретические и лексикографические источники сгруппированы в соответствии с хронологическим принципом: 1) источники, опубликованные в XVIII в. (грамматики М. Шванвица, И. Шалля, Ф. Гёл-тергофа, И. Фабиана); 2) источники, относящиеся к XIX в. (грамматики А. Шумахера, К. Аксакова, научно-теоретические работы В. Добровского, М. Каткова, П. Перевлесского, А. Майкова, А. Потебни, Н. Некрасова, Т. Флоринского, словари И. Шмидта, Н. Ленстрёма, русские переводы немецкой лингвистической литературы, рецензии и обзоры в периодических изданиях); 3) источники, увидевшие свет в XX–XXI вв. (исследования С. Булича, Р. Шор, Б. Шмелева, Е. Поливанова и др., словари различных типов, энциклопедии). Упомянутые работы представляют собой лишь некоторую часть гораздо более обширной источниковой базы, обследованной методом сплошной выборки. Только в них были обнаружены интересующие нас контексты, проанализированные в дальнейшем с учетом цели и задач исследования.
В статье используются методы историко-лингвистического, дефиниционного и семантического анализа, позволяющие детально осветить историю заимствования и последующей ассимиляции термина, эволюцию его семантики, уточнить некоторые факты, связанные с первичным и последующими упо-
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ треблениями исследуемой терминологической единицы и ее многочисленных синонимов в том или ином значении.
Результаты и обсуждение
Описание умлаута в русских грамматических источниках XVIII века
Одно из первых описаний умлаута встречается в Н мецкой грамматике («Teutſche Grammatica») М. Шванвица: «...въ Нѣмецкомъ языкѣ случаются слѣдующïя двоегласныя; aa, aa, oo, aͤ, oͤ, uͤ, au, eu, ai, ei, ay, ey, oy, aͤu, aͤy, ie...» [Шванвиц, 1745, c. 7]. В соответствии с существовавшей тогда грамматической традицией, Шванвиц отнес умлауты к дифтонгическим звукосочетаниям («Diphthongi»), добавив к этому ряду удвоенные гласные. Удвоение гласных на письме обычно использовалось для указания на долготу соответствующего монофтонга.
Объяснение причины, по которой Шван-виц включил в состав дифтонгов удвоенные гласные и умлауты, можно найти в Готшедо-вой грамматике , опубликованной в 1769 г. в Санкт-Петербурге: «Когда двѣ гласныя буквы стоятъ вмѣстѣ, то оныя называются двоеглас-ными (Zweylautende), изъ которыхъ главныхъ тринадцать, то есть: aͤ, oͤ, uͤ, ai или ay, ei или ey, oi или oy, au, eu, ou, и uy. Двоегласныя буквы aͤ, oͤ, uͤ называются мягкими или несвойственными, и иногда протяжно, а иногда кратко выговариваются...» [Готшедова грамматика..., 1769, c. 3]. Очевидно, что соседство в слове двух гласных признавалось достаточным основанием для установления их дифтонгического произношения 3.
В 1789 г. И. Шалль издал Новую Н мецкую грамматику для учащихся Императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса. Пожалуй, впервые в немецких грамматиках, изданных для русских читателей, отнесение умлаутов к дифтонгам здесь объясняется не соседством двух гласных, а особым характером их произнесения, поскольку они «въ себѣ имѣютъ сложной голосъ двухъ раз-личныхъ гласныхъ буквъ» [Шалль, 1789, c. 7]. «Голосовая сложность», по мнению Шалля, состоит в том, что умлауты произносятся «въ 74
половину» исходной гласной (например, «а») и «въ половину буквы e» [Шалль, 1789, c. 7]. Автор находит в русском алфавите звуковой аналог немецкому А-умлауту: «россïйское Ѣ», которое, как было принято считать, в произношении отличалось от «е».
В Н мецкой грамматике Ф. Гёлтергофа, изданной двумя годами позже, практически дословно воспроизводятся трактовка и примеры Шалля с той лишь разницей, что Шалль насчитывает в немецком языке одиннадцать дифтонгов, а Гёлтергоф – ужé шестнадцать [Гёлтергоф, 1791, c. 3].
В конце XVIII в. обнаружился единственный источник, датированный 1799 г., в котором зафиксировано интересующее нас словоупотребление. В Новой Н мецкой грамматике И. Фабиана встречается следующее рассуждение: «Въ разныхъ родахъ склоненïя, равно какъ въ произведенïи и составленïи словъ очень часто гласныя буквы a превращаются въ aͤ, o въ oͤ и u въ uͤ, и сïе превращенïе a, o и u въ aͤ, oͤ и uͤ называется оголоскомъ (der Umlaut)» [Фабиан, 1799, c. 32]. Номинацию «оголосок», используемую автором Грамматики , которая, как следует из ее названия, основывается «на правилахъ лучшихъ Нѣмецкаго языка учителей: Аделунга, Гейнаца и Морица», следует признать уникальной (авторской), поскольку ни до, ни после него она не встречается более ни в одном из обследованных источников. С учетом мнений авторов, на которые опирался Фабиан при составлении своей Грамматики , можно сделать однозначный вывод о том, что умлауты он относит к монофтонгам, реализующимся в речи несколько отлично от исходных неумлаутированных гласных. Кроме того, название «оголосок» автор применяет не к умлаутам как таковым, а скорее к умлау-тизации (Umlautung, Umlauten) исходных корневых гласных, сопровождающей процессы словоизменения и словообразования.
Описание умлаута в русских грамматических источниках XIX века
В 1819 г. А. Шумахер выпустил в свет Новую практическую Н мецкую грамматику, в которой он, так же, как и Фабиан, причислял умлауты к монофтонгам. Хотя умлауты, по его мнению, в произносительном и графическом аспектах выступают как соединение двух гласных букв, они тем не менее «представляютъ одинъ только голосъ» [Шумахер, 1819, c. 14]. Специального терминологического обозначения для умлаута Шумахер не вводил.
В 1 844 г. умлаут получает второе русскоязычное название – «перемѣна глас-ныхъ» в Vollſtändiges Ruſſiſch-Deutſches und Deutſch-Ruſſiſches Wörterbuch И. Шмидта: «... слѣдующiя имена перемѣняютъ въ мно-жественномъ числѣ гласныя {a o u} на {ä ö ü} которая перемѣна гласныхъ по нѣмецки называется der Umlaut» (Schmidt, 1844, S. 484); далее у него же: «Въ преходящемъ времени сослагательнаго наклоненiя перемѣняютъ гласную a на ä, brächte приносилъ бы; dächte думалъ бы. – Эта перемѣна гласныхъ буквъ a на ä, o на ö, u на ü, и au на äu называется по нѣмецки der Umlaut» (Schmidt, 1844, S. 504).
Термин «перемѣна гласныхъ» используется на протяжении всего XIX века. Он обнаруживается, например, у В. Добро-вского, который применительно к романским языкам отмечал, что в них, в отличие от германских языков, в которых умлаут вызывается прежде всего смысловыми или логическими причинами (Добровский именует их «семазiологическими»), «перемѣна гласныхъ обусловлена требованіями “фонетической ясности” или благозвучія» [Добро-вский, 1888, c. 679].
Результат анализа текстовых источников показывает, что «оголосок» и «перемена гласных» выступают не единственными терминологическими синонимами к номинации «умлаут». В 1845 г. у М. Каткова в работе Объ элементахъ и формахъ Славяно-русскаго языка встречается еще одно терминологическое обозначение умлаута – «перезвук»: «...однако лучше и удобнѣе [буква ы] можетъ быть названа просто долготою губной гласной у (т. е., какъ у насъ доказано, ъ-а) и съ тѣмъ вмѣстѣ ея перезвукомъ (Umlaut) въ нeбнoмъ элементѣ (сл. аналогический процессъ, какимъ въ Нѣмецкомъ изъ u становится ü)» [Катков, 1845, c. 31–32]. Данная номинация представляет собой структурную кальку немецкого термина, смысловое содержание которого Катков проецирует, как ему представляется, на сходные процессы, устанавливаемые в системе русско- го вокализма. Оставляя за скобками попытку автора объяснить изменение у в ы вследствие умлаутизации, заметим, что он, судя по всему, под умлаутом понимает вообще «перемену гласных» как таковую.
Подобное толкование понятийного содержания номинации «перезвук», очевидно, препятствовало ее конвенционализации, поскольку процессы, вызывающие модификации корневых гласных, предполагают в таком случае любое изменение последних безотносительно к причинам, его обусловливающим. Такой переменой может быть и аблаут, который в некоторых работах тоже получил название «перезвук» или трактовался как явление, «похожее на перезвук». Ср. в Памятниках Старословенскаго языка у П. Перевлесского: «Конечно, въ этихъ формахъ [аориста безъ вставки вспомогательныхъ гласныхъ] нечего искать ни удвоенiя (Reduplication), ни пере-звука (Ablaut): измѣненіе гласной, похожее на перезвукъ, имѣетъ мѣсто въ формахъ аориста...» [Перевлесский, 1854, c. 23].
В 1857 г. А. Майков в Исторiи Сербскаго языка наряду с номинацией «перезвук» употребил параллельный термин «перегласовка»: «Сначала для огласованiя ь книжный Сербскiй языкъ прибѣгнулъ къ е, какъ звуку, ближайшему къ ь по способу перегласовки, употребляемому въ другихъ Славянскихъ нарѣчiяхъ и отчасти въ самом Ц.-Славянскомъ; потом онъ употребилъ самостоятельный и чисто Сербскiй способъ перегласовки...» [Майков, 1857, c. 397].
В 1859 г. термин «перегласовка» с опорой на работы Я. Гримма, в которых он разграничил понятия умлаута и аблаута, прочно утверждается в русском лингвистическом дискурсе в качестве еще одной кальки немецкого термина «Umlaut». В частности, в Обозр нiи русскихъ газетъ и журналовъ находим следующее тому подтверждение: «Онъ [Гриммъ] открылъ, доказалъ и неопровержимо устано-вилъ основы образованiя языка (перегласовку, перестановку звуковъ, гунированiе, Ablaut), и такимъ образомъ произвелъ переворотъ въ способѣ изученiя Нѣмецкаго языка» [Обозрение..., 1859, c. 185]. Из этой цитаты понятно, что под «перегласовкой» понимается процесс изменения (подъема или сужения) корневой гласной, отличающийся от аблаута, которому в русской лингвистике еще не было до этого времени придумано адекватного своеязычного наименования 4.
Начиная с Майкова, в лингвистической терминосистеме русского языка оба названия умлаута – «перезвук» и «перегласовка» – некоторое время существуют параллельно как минимум до 1880 года. В 1865 г. о немецком умлауте как о «перезвуке» упоминает А. Потебня: «Академикъ Бетлинкъ видитъ въ подоб-ныхъ явленіяхъ прогрессивную ассимиляцію, то есть влiянiе следующей твердой или мягкой гласной, какъ въ нѣмецкомъ перезвукѣ (Umlaut) или въ Верхнелужицкомъ, гдѣ е передъ мягкимъ слогомъ произносится ясно (hell) т. е. ближе къ и... , а передъ твердымъ – глухо...» [Потебня, 1865, с. 65]5. После Потебни это же словоупотребление фиксируется в Краледворской рукописи Н. Некрасова [Некрасов, 1872, c. 211], позже в Опыте Русской грамматики К. Аксакова [1880, c. 227]. После Аксакова термин «перезвук» как синоним немецкого термина «Umlaut» в работах русских лингвистов обнаружить не удалось.
В 1864 г. И. Желтов, выступив перевод -чиком книги Система языковѣдѣнiя К. Хейзе, предложил в качестве русских вариантов перевода терминов «Umlaut» и «Ablaut» словосочетания «слiянiе гласныхъ» и «замѣна гласныхъ» соответственно. Оба термина занимают подчиненную позицию по отношению к термину широкой семантики «перемѣна гласныхъ» Ср.: «Эта перемена гласныхъ въ семитиче-скихъ языкахъ есть преобладающій способъ образованія и измѣненія словъ; въ языкахъ же индогерманскаго племени является только въ видѣ замѣны гласныхъ (Ablaut), которая въ германскихъ языкахъ очевидно составляетъ логическое средство къ производству словъ и въ особенности словесныхъ основъ; между тЬмъ какъ слiянiе гласныхъ (Umlaut) первоначально есть процессъ только фонетическiй, смѣшеніе звука безъ логическаго значенія, и уже въ позднѣйшія времена пріобрѣтаетъ значеніе этимологическое и грамматическое (brach, brich, Bruch, brechen, gebrochen, – brach, bräche, Bruch, Brüche и т. д.)» [Хейзе, 1864, с. 177]. Однозначная квалификация этих вариантов в качестве терминов потребовала обращения к первоисточнику с целью, во-первых, исключить как способ перевода описание сущности этих явлений с помощью пред- ложенных Желтовым вариантов, во-вторых, убедиться в том, что Хейзе в работе System der Sprachwissenschaft также не прибегает к описанию умлаута и аблаута. Результаты анализа показывают, что Хейзе не описывает понятийное содержание этих явлений, а лишь использует интересующую нас терминологию 6.
В 1871 г. в Russisch-deutsches und deutsch-russisches Worterbuch Н. Ленстрёма встречается еще одно терминологическое средство, призванное обозначить умлаут: «Umlaut, m ., измѣненiе гласной» (Lenstroem, 1871, S. 787). Как и упоминаемый выше термин «перемена гласных», эта номинация обладает широким значением и может быть использована не только для обозначения умлаута, но и любого другого изменения гласного.
Несколько более частотным оказывается родственное «перегласовке» название «пере-гласование». Случаи его использования можно обнаружить, например, у К. Аппеля в рецензии на небольшое по объему сочинение Una lettera glottologica Г Асколи 7,которая была опубликована в «Русском Филологическом Вестнике»: «... голландскій язык – один из германских языков с кельтической подкладкой – также имѣет гл. ü (kus = küs), разумѣется, независимо от условій перегласованія (Umlaut)» [Аппель, 1882, c. 330].
В конце XIX в. в составе ряда терминологических синонимов, так или иначе обозначающих умлаут, появляется еще одно, последнее в этом столетии, наименование – «съуживанiе гласныхъ»: «Особенное развитiе это явленiе [ассимиляцiя] получило въ чешскомъ языкѣ, гдѣ оно носитъ названiе перегласовки или съуживанiя гласныхъ» [Флоринский, 1895, c. 423]. Как видно из приведенной цитаты, речь идет о перегласовках в чешском языке, которые автор описывает с чисто фонетической точки зрения, говоря о сужении корневого гласного в результате ассимиляции. На наш взгляд, в этом случае также можно говорить о параллельном названии перегласовки, а не об объяснении сущности умлаута как процесса.
Описание умлаута в русских грамматических источниках XX–XXI веков
К началу XX в. в составе терминологии, применяемой для обозначения умлаута, в употреблении остались два наименования – «перемена гласных» и «перегласовка».
Термин «перемена гласных» в 1904 г. использовал С. Булич в Очерке исторiи языкознанiя въ Россiи : «[Ассоцiируются между собой] всѣ имена существительныя муж. рода, образующiя множ. число съ перемѣною глас-наго звука (Umlaut) въ противоположность неизмѣняющимъ гласныхъ...» [Булич, 1904, c. 127–128].
В советской лингвистике обозначение «перемена гласных» в качестве самостоятельной терминологической единицы уже не применялось и встречалось только как метаязыковой элемент в составе дефиниций термина «перегласовка» (БСЭ1, 1955, т. 32, c. 386; ССРЛЯ, 1959, т. 9, c. 518). Объяснение этому заключается в его широкозначности.
Термин «перегласовка» мог использоваться как в узком смысле («переднеязычная перегласовка»), обозначая подъем или сужение корневой гласной под влиянием i или j последующего слога (так называемый «первичный умлаут» или «i-умлаут»), так и в широком смысле, номинируя «перемену гласной» вообще. По этой причине, по мнению авторов Сравнительной грамматики германских языков , слово «перегласовка» по сравнению с заимствованным термином «умлаут» «едва ли лучше как термин» [Сравнительная грамматика..., 1962, т. 2, c. 141]. Тем не менее оно употребляется на протяжении всего XX века. Его можно встретить в качестве леммы в энциклопедиях и словарях русского языка (БСЭ1, 1955, т. 32, c. 386; ССРЛЯ, 1959, т. 9, c. 518; БАСРЯ, 2011, т. 16, c. 55), а также в составе практически всех дефиниций термина «умлаут».
В 1928 г. в статье Р. Шор К вопросу о сокращении алфавита, опубликованной в ответ на статью Н. Яковлева в рамках полемики, возникшей по поводу применения математического подхода к построению алфавита, впервые, судя по результатам наших изысканий, появляется термин «умлаут» [Шор, 1928, c. 71]. В более ранних обследованных источниках он не обнаруживается. Рассуждая об умлауте, Шор видит в нем графическое средство и относит его к числу аналитических начертаний или знаков, дополняющих графему и позволяющих передать некоторые произносительные особенности соответствующей базовой фонемы. При этом она ссылается на примеры использования диакритики в семитских языках (арабский, древнееврейский). Затруднительно назвать такой подход к умлауту новым, поскольку его в связи с семитской письменной традицией рассматривал еще Хейзе [Heyse, 1856, S. 147], и задолго до него В. Икельзамер в Teütſche Grammatica [Ickelsamer, 1534].
Год спустя в Самоучителе немецкого языка для взрослых Б. Шмелева наряду с термином «перегласовка» появляется орфографический вариант «умляут» [Шмелев, 1929, стб. 177]. В дальнейшем в двух различных написаниях – «умлаут» и «умляут» – термин встречается в целом ряде работ по истории и теории германских языков 8.
Термин «умлаут» впервые становится объектом лексикографической фиксации в 1949 г. в третьем издании Словаря иностранных слов под редакцией И. Лехина и Ф. Петрова (СИС1, 1949, c. 665). В составе дефиниции «умлаута» используется термин «палатализация» в применении к «коренному гласному», однако термин «палатализация» не может рассматриваться в качестве синонима, поскольку (как и его аналог «смягчение») обозначает явление общефонетического характера, которое возникает по различным причинам, в частности как следствие каких-либо фонетических процессов, не связанных с умлаутом. В издании упомянутого словаря 1954 г. в качестве леммы фиксируются уже два варианта написания термина – «умлаут» и «умляут» (СИС2, 1954, c. 712).
Термин «умлаут» обнаруживается во втором издании Большой советской энциклопедии . Особенностью его лексикографической репрезентации было не только написание через «я», но и ошибочное ударение на первом слоге, объясняемое, по-видимому, начальным ударением в исходном немецком термине (Úmlaut) (БСЭ1, 1956, т. 44, c. 226–227). В третьем издании Энциклопедии даны уже орфографические дублеты – через «а» и через «я» – с ударением на втором слоге, причем написание через «а» предлагалось в качестве основного (БСЭ2, 1977, т. 27, c. 10).
В 1964 г. термин «умлаут» лексикогра-фирован в Словаре современного русского литературного языка с написанием через
«я» (ССРЛЯ, 1964, т. 16, стб. 613). Один из последних случаев лексикографической фиксации интересующего нас термина отмечен в Лингвистическом энциклопедическом словаре [Виноградов, 1990] 9.
От термина «умлаут» с течением времени образовывались производные. Одним из первых таких слов стало «умлаутный», которое в 1933 г. встречается в работе Е. Поливанова Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком : «Для сравнения приведем число гласных фонем в узбекских диалектах... в андижанском (IV) и “умлаутном” (IVA) типах – 9 (прибавляются ɵ и ü)» [Поливанов, 1933, c. 39].
Выводы
-
1. Умлаут как фонетическое явление стал объектом описания в русской лингвистике около середины XVIII века. В это время умлауты, как правило, относились к разряду дифтонгов, поскольку считалось, что они представляют собой сочетание двух звуков (М. Шванвиц, С. Вуяновский, И. Шалль, Ф. Гёлтергоф). К концу XVIII в. в сочинениях отдельных ученых фиксируется иной подход к оценке фонетического статуса умлаутов (И. Фабиан, А. Шумахер). В частности, Фабиан (1799), с опорой на работы Аделунга, Гейнаца и Морица относит умлауты к простым звукам. Очевидно, что статус умлаута в сочинениях российских языковедов менялся в зависимости от позиции, которую в разное время по этому вопросу занимали немецкие лингвисты. На исходе XVIII в. Фабианом было предложено первое русское терминологическое название умлаута – «оголосок».
-
2. В XIX в. умлаут получил целый ряд различных наименований. К ним относятся «перемена гласных» (И. Шмидт, 1844; В. До-бровский, 1888), «перезвук» (М. Катков, 1845; П. Перевлесский, 1854; А. Майков, 1957; А. Потебня, 1965; Ф. Мюллер (в переводе Дм. Лавренка), 1865; Н. Некрасов, 1872; К. Аксаков, 1880), «перегласовка» (А. Майков, 1957; А. Дювернуа, 1862; И. Бодуэн де Куртенэ, 1871, 1872, 1877; А. Гильфердинг, 1871; Б. Дорн, 1875; А. Кочубинский, 1876; В. Добро-вский, 1888; Т. Флоринский, 1895), «слияние гласных» (К. Хейзе (в переводе И. Желтова), 1864, 1872), «изменение гласной» (Н. Лен-
стрём, 1871), «перегласование» (К. Аппель, 1882), «суживание гласных» (Т. Флоринский, 1895). Столь обширный список синонимичных наименований умлаута объясняется прежде всего отсутствием у исследователей единой точки зрения на это лингвистическое явление, что приводило к появлению различных, в том числе ошибочных, трактовок его сущности.
-
3. В начале XX в. название «перегласовка» остается практически единственной номинацией, обозначающей умлаут. Заимствованный методом транслитерации из немецкого языка в русский термин «умлаут» появился, как показывает исследование, в 1928 г. в работе Р. Шор. Параллельно возник его орфографический дублет «умляут» (Б. Шмелев, 1929). В 1933 г. его дериват «умлаутный» использовал Е. Поливанов применительно к типологии узбекских диалектов. С этого времени заимствованная номинация начинает постепенно вытеснять синонимичные языковые единицы, созданные на основе русского морфемного материала. Объяснение здесь видится в ограниченном характере употребления термина «умлаут», применяемого обычно при описании фонетического и грамматического строя языков германской группы, и, следовательно, в возможности узкого толкования его семантики.
-
4. Термин «умлаут» впервые лексикогра-фирован в 1949 г. в Словаре иностранных слов И. Лехина и Ф. Петрова. В переиздании этого словаря (1954) приводятся оба орфографических варианта – «умлаут» и «умляут». Написание через «я» сохраняется в справочных изданиях вплоть до 1964 года.
Список литературы "Умлаут" как терминологическое отражение межъязыковых связей в лингвистике
- Аксаков К. С. 1880. Опытъ Русской грамматики II Полное собрате сочиненш. В 3 т. Т. 3. Сочинешя филологическая. М.: Въ Университетской Типографш (М. Катковъ). 469 с.
- Аппель К., 1882. Una lettera glottologica di G.I. Ascoli, pubblicata nell'occasione che raccoglie vasi in Berlino il quinto congresso internazionale degli orientalisti. Torino. 1881 II Русскш Филологический В^тникъ. Т. VII (Годъ 4-ый). С. 329-332.
- Булич С. К., 1904. Очеркъ исторш языкознашя въ Россш. СПб.: Типограф!я М. Меркушева. 1261 с.
- Виноградов В. А., 1990. Умлаут II Лингвистический энциклопедический словарь I гл. ред. B. H. Ярцева. М.: Сов. энцикл. С. 535.
- Вуяновский С., 1772. Б^мецкад Граммапка, изъ разлычныхъ авторовъ, наипачеже готшедо-выхъ книгъ собранна, и въ пользу сербскихъ дЬтей на славеносербскомъ шыкЬ издснена. Вïенна: При Iœсифt КурцъбекЬ Цесаро-Крал. Восточно^ллтрыческомъ Типограф^ 595 с.
- Гёлтергоф Ф., 1791. Htмецкая грамматика, въ которой не токмо вс t части рtчи, или произведете словъ, но и синтаксисъ, или сочинеше словъ, оба надлежащими примtрами объяснены, въ пользу Россшскаго юношества. М.: В Университетской типографш, у В. Окорокова. 368 с.
- Готшедова Б^мецкая грамматика, вновь исправленная, и для ползы и употребления россшскаго благороднаго юношества напечатанная, вто-рымъ тисненïемъ, 1769. СПб.: При морскомъ шляхетномъ кадетскомъ Корпус^ 423 с.
- Добровский В. М., 1888. Къ ученiю о словян-скомъ глаголt (продолженiе) II Русскш Филологическш Вtстникъ. Т. V (Годъ 27-й). C. 677-705.
- Катков М. H., 1845. Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго языка: Разсуждение, написанное на степень магистра кандидатомъ М. Катковымъ. М.: В Университетской типографш. 258 с.
- Майков А. А., 1857. Истор!я сербского языка по па-мятникамъ, писаннымъ кирилицею, въ связи с истор!ею народа. М.: В Университетской типографш. 857 с.
- Мюллер Ф. М., 1865. Лекцш по наукЬ о языкЬ, читанныя въ Королевскомъ британскомъ институт Ъ. СПб.: Издаше редакцiи «Библютека для чтенiя». 313 с.
- Некрасов Н., 1872. Краледворская рукопись въ двухъ транскрипщяхь текста. Съ предисловiемъ, словарями, частью грамматическою, примЪчашями и приложешями. СПб.: Типографiя Императорской Академш Наукъ. 439 с.
- ОбозрЪше русскихъ газетъ и журналовъ за последнюю треть 1858 года: Отделение VI. VIII. Языкознанiе, 1859 // Журналъ Министерства народнаго просвЪщешя. № 102. С. 179-186.
- Перевлесский П. М., 1854. Памятники Старосло-венскаго языка, изданные для лицея. СПб.: Типографiя Императорской Академш Наукъ. 354 с.
- Поливанов Е. Д., 1933. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. Ташкент: Госиздат УзССР. 182 с.
- Потебня А. А., 1865. О звуковыхъ особенностяхъ русскихъ нарЪчш // Филологическая Записки. Вып. I. С. 49-91.
- Сравнительная грамматика германских языков: в 5 т. Т. 2: Фонология, 1962. М.: АН СССР. 402 с.
- Фабиан И., 1799. Новая НЪмецкая грамматика, или Руководство правильно говорить и писать по нЪмецки, основанное на правилахъ луч-шихъ НЪмецкаго языка учителей: Аделунга, Гейнаца и Морица. М.: В Университетской типографш, у Ридигера и Клаудiя. 223 с.
- Флоринский Т. Д., 1895. Лекцш по славянскому языкознашю. Ч. 1. Киевъ: Типографiя Им-ператорскаго Университета св. Владимiра. 527 с.
- Хейзе К., 1864. Система языков^дЬ^я в переводЬ И.М. Желтова (Продолженiе) // Филологически Записки. Вып. II. С. 125-188.
- Шалль И. Э. Ф., 1789. Новая НЪмецкая грамматика, обучающагося юношества въ Император-скомъ Шляхетномъ Сухопутномъ Кадетскомъ КорпусЪ. СПб.: Печатано при ономъ же КорпусЪ. 263 с.
- Шванвиц М., 1745. НЪмецкая грамматика, Собранная прежде изъ разныхъ авторовъ, а нынЪ для употреблен!я Санктпетербургской гимназш вновь пересмотрЪнная и во многихъ мЪстахъ исправленная. СПб.: Печатана при Императорской Академш наукъ. 447 с.
- Шмелев Б. В., 1929. Самоучитель немецкого языка для взрослых (метод Мертнера). Курс II (для продолжающих). М.: изд. автора. 349 с.
- Шор Р. О., 1928. К вопросу о сокращении алфавита: (Критические замечания на статью проф. Н.Ф. Яковлева «Математическая формула построения алфавита». «Культура и письменность Востока». Кн. 1-ая. М. 1928) // Культура и письменность Востока. Кн. II. Баку: Изд. ВЦК НА. С. 62-75.
- Шумахер А. В., 1819. Новая практическая Немецкая грамматика, сочиненная для употреблены въ Педагогическомъ Институт^ и въ другихъ подобныхъ училищахъ. СПб.: Типография Департамента народнаго просвЪщен1я. 232 с.
- Heyse K., 1856. System der Sprachwissenschaft. Berlin: Ferdinand Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 475 S.
- Ickelsamer V., 1534. Ain Teütfche Grammatica. Augsburg: Ulhart. 79 S.
- Klopstock F. G., 1774. Die deutfche Gelehrtenrepublik. Ihre Einrichtung. Ihre Gefeze, Gefchichte des lezten Landtags. Auf Befehl der Aldermaenner durch Salogaft und Wlemar. Hamburg: Gedrukt bey J.J.C. Bode. 448 S.
- БАСРЯ - Большой академический словарь русского языка. T. 16. Перевалец - Пламя. М.: Наука ; СПб.: Наука, 2011. 638 с.
- БСЭ1 - Большая советская энциклопедия: в 50 т. / гл. ред. Б. А. Введенский. М.: Сов. энцикл., 1950-1957. Т. 32: Панипат - Печура. 1955. 628 с. ; Т. 44: Ужи - Фидель. 1956. 664 с.
- БСЭ2 - Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 27. Ульяновск - Франкфорт / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1977. 624 с.
- СИС1 - Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1949. 801 с.
- СИС2 - Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1954. 853 с.
- ССРЛЯ - Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / гл. ред. Ф. П. Филин. М. ; Л.: АН СССР, 1950-1965. Т. 9: П - пнуть. 1959. 741 с. ; Т. 16: У - Ф. 1964. 805 с.
- Lenstroem N. Russisch-deutsches und deutschrussisches Wörterbuch. Sondershausen: Verlag von Fr. Aug. Eupel (Otto Kirchhoff) ; Leipzig: G.E. Schulze, 1871. 704 S.
- Schmidt J. Vollftändiges Ruffifch-Deutfches und Deutfch-Ruffifches Wörterbuch zum Gebrauch beider Nationen. Erfter Theil: Ruffifch-Deutfch. Leipzig: Druck und Verlag von Karl Tauchnitz, 1844. 514 S.