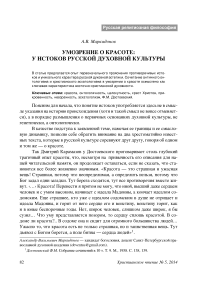Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская религиозная философия
Статья в выпуске: 5 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается опыт первоначального прояснения противоречивых истоков и уникального характера русской духовной эстетики. Сочетание античного онтологизма и христианского эсхатологизма в умозрении о красоте осмыслено как ключевая характеристика восточно-христианской духовности.
Красота, онтологичность, целокупность, крест христов, прикровенность, невзрачность, эсхатологизм, ф.м. достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/140190054
IDR: 140190054
Текст научной статьи Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры
Поясним для начала, что понятие истоков употребляется здесь не в смысле указания на историю происхождения (хотя и такой смысл не вовсе отменяется), а в порядке размышления о первичных основаниях духовной культуры, не генетически, а онтологически.
В качестве подступа к заявленной теме, намечая ее границы и ее смысловую динамику, позволю себе обратить внимание на два хрестоматийно известных текста, которые в русской культуре соревнуют друг другу, говоря об одном и том же— о красоте.
Так Дмитрий Карамазов у Достоевского проговаривает столь глубокий трагичный опыт красоты, что, несмотря на привычность его описания для нашей читательской памяти, он продолжает оставаться, если не сказать, что становится все более жизненно значимым. «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. ‹…› Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил…Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. В содоме она и сидит для огромного большинства людей… Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» 1 .
Иной опыт красоты доносит до нас древнее повествование русской летописи об «испытании вер» князем Владимиром. Посланцы князя по возвращении рассказывают: «Ходили де к болгарам, смотрели, как они молятся…Стоят без пояса, сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как бешеный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве» 2 .
Герой Достоевского потрясен двойственностью и неопределимостью красоты, как кажется, одинаково убедительно, а значит и никогда не достоверно являющейся, как в добре, так и во зле. Красота в этом случае увлекает в распутие, вносит противоречие и разлад, дробит и расточает человеческую душу.
В летописном повествовании — обратное: это свидетельство прежде всего о красоте церковной службы как образа высочайшей удостоверенности, даже не в добре, как одной из «ценностей» человеческого социума, а в присутствии Божием, в опыте выше — естественной солидарности Бога со Своим творением — «пребывает там Бог с людьми». Последнее, заметим, перекликается с Апокалипсисом: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр 21:3). А перекличка эта говорит об эсхатологической природе той библейской по своему источнику «эстетики», которая всецело отражается в повествовании русской летописи. Под эсхатологическим мы понимаем здесь в первую очередь не то, что случится в конце истории, а то, как совершается сама история и, конечно, человеческая жизнь в ней, зримые и осуществляемые в свете и в силе творения и Боговоплощения, то есть двояко «ограниченные» и двояко направленные — своей конечностью и присутствием Бога — за свои пределы, к эсхатону. Тварность, мыслимая экзистенциальноисторически, есть тем самым не только ограниченность, конечность, но и открытость — та открытость, что силою соприсутствия Бога Своему творению способна возводить человека к состоянию обоженности, ибо: Бог стал человеком, чтобы человек обожился. «Таинственность» и «неизреченность» красоты в летописном повествовании связаны именно с этой в красоте открывающейся перспективой эсхатологической полноты бытия: «Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр 21:3).
Признаками прямо противоположного являются в прозрениях Дмитрия Карамазова «неопределимость» и «загадочность» красоты, ее изменчивость.
В опыте героя Достоевского красота не только не удостоверяет, не убеждает в нравственной подлинности и безупречной целостности бытия, но, напротив, инспирирует разлад, вовлекает в борьбу и сомнения. Эстетически привлекательным оказывается и зло, внутри самого эстетического способное сосуществовать с добром. Трагически обостренное в художественно-философском опыте Достоевского размежевание добра и красоты или борьба добра и зла, как и их соседство, в области эстетического, на самом деле заурядное явление Нового времени, существенная характеристика духа эпохи. Но почти привычное для новоевропейского сознания обособление красоты в область эстетического от истины и добра, числимых по статусу гносеологии и морали, никак нельзя навязать участникам нашего летописного рассказа, а шире — и античносредневековой культуре в целом.
Однако, не только библейское Откровение о Боге-Творце, о чем надо будет сказать особо, но и эстетическое сознание греческой античности были принципиально свободны от какой бы то ни было формы субъективизма, а значит и от той автономизации истины, добра и красоты, которая сопровождает опыт и сказывается в сознании человека Нового времени.
Напротив, умозрение о высшем совершенстве — божественном Благе — исходило в античности из интуиции некоей этической, онтологической и эсте- тической целостности. «Сила Блага, — говорит Платон в «Филебе», — перенеслась у нас в природу прекрасного, ибо умеренность и соразмерность всюду становятся красотой и добродетелью. ‹…› Но ‹…› к соединению их примешена также истина. Итак, если мы не в состоянии уловить Благо одной идеей, то поймаем его тремя — красотой, соразмерностью и истиной; сложив их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря ее благости самая смесь становится благом»3.
Прекрасное не только неотделимо от этико-онтологической содержательности космического и политического сущего, но и не является элементарной частью такого сущего: оно есть форма или энтелехия его существования. Иначе говоря, действительность сущего выявляется в красоте.
Крупнейший знаток античной культуры А.Ф. Лосев отмечал: «…Прихо-дится еще и еще раз констатировать удивительно упорную особенность античной эстетики, это — понимание выразительных форм как форм бытийственных, вещественных» 4 — то есть, заключим от себя, понимание эстетики как онтологии. В полном соответствии с таким пониманием, Лосев свое многотомное исследование античного умозрения о бытии и называет «историей античной эстетики ». «В то время как немецкая эстетика, — пишет он здесь, — имеет вполне определенную тенденцию трактовать возвышенное, а равно и все эстетические модификации, вне всякого содержания и независимо от содержания, античная эстетика обязательно требует, чтобы для прекрасного изображения выбирался и предмет прекрасный, чтобы возвышенный стиль был связан с возвышенным со-держанием» 5 , как где-то по этому поводу говорит Платон: «Надо, чтобы наша молодежь не только могла хорошо танцевать, но и — танцевать хорошее» 6 .
О неразрывной сопринадлежности красоты и истины в бытии творения говорит в Новое время и Мартин Хайдеггер, стремящийся вернуться к античным истокам европейского мышления: «Прекрасное не встречается наряду с истиной и помимо нее. Когда истина полагает себя вовнутрь творения, она является. Такое явление как бытие истины внутри творения и как творческое бытие истины есть красота» 7 .
И когда тот же А.Ф. Лосев замечает, что «о самой природе красоты, если иметь в виду точность определения, Платон говорит до чрезвычайности мало и редко» 8 , самая эта неопределимость красоты свидетельствует о ее бытийной наполненности, ее несводимости — в онтологической весомости своей — к специально и обособленно «эстетическому». Заметим, что понятийная неопределимость красоты является, в данном случае, другой стороной ее самоочевидной исполненности, «сбывшести», качеством самой ее действительности, в отличие от зыбкой мнимостной видимости «красивого» в связанном субъективизмом сознании Нового времени. Там, в античности, убедительность самого сущего в красоте, не нуждающаяся в дефинициях; здесь — тотальная недостоверность как следствие стремления автономного субъекта опереться на себя в усмотрении бытия.
Бытие выявляется в красоте, а в ней неявленное еще не свободно от ущерба, и тем самым в бытии еще не состоялось. И напротив, мнима и красота, разминувшаяся с онтологической добротностью и нравственной безупречностью. Этому никак до конца неразложимому /а значит и неопределимому/ единству красоты, доблести и телесной крепости уже в истоке греческой культуры было дано название «калокагати́я». Красота физического тела, доброта нрава и знатность происхождения, как и многое-многое другое, способны в модусе данного представления стать выражением и средством того совершенства и величия, к которому человек призван и которое так или иначе сопрягает в неразрывном единстве «прекрасное» и «доброе», «хорошее». Такое единство и закреплено в понятии калокагатии (от «калос» и «агафос»).
Греческий перевод Св. Писания Ветхого завета, Септуагинта, выразительно демонстрирует близкое только что названному понимание красоты. Красота эта если и тешит взор, то, прежде всего, убедительной прочностью и осмысленностью сотворенного бытия, самое устроение которого отвечает не только отрешенному вкусу созерцателя, но и прикровенному намерению и замыслу самого Творца, Который, впрочем, является и первым созерцателем сущего. Так что здесь эстетически ориентированное созерцание творения изначально, и в самом Творце, преображено и восполнено целокупной истиной божественного замысла, его онтологической добротностью и нравственной оправданостью. «Греческое слово «калос» означает «прекрасный», — пишет С.С. Аверинцев, — и, следовательно, в любом случае имеет касательство к эстетическим категориям. В греческом тексте Библии…говорится, что Бог нашел все части созданного им мирового целого «кала лиан» («весьма прекрасными» — Быт 1:31). Спрашивается: заключена ли в этих словах эстетическая оценка мироздания? По-видимому, да. Однако, в соответствующем месте др. евр. подлинника стоят слова, означающие: «весьма хорошо», в чем уже затруднительно усмотреть присутствие какой-либо «эстетической категории»; равным образом, латинская Вульгата дает в соответствующем месте равнозначное valde bona. ‹…› Эстетическое значение слова на наших глазах переливается в общежизненное»9.
Аналогом греческой «калокагатии», определяющей характер совершенствования человека в языческой культуре, в культуре христианской можно считать «филокалию» — понятие, обозначившее — как «любовь к прекрасному» — и жанр византийской богословско-аскетической словесности, и саму христианскую добродетель. Ведь эта самая добродетель не вмещается в границы нравственно-дисциплинарной практики, более сообразной находя для себя стихию художества , обращенного в опыте христианской аскезы к самому человеческому естеству, к делу его устроения по образу Божию. «Знатоки красоты [этого образа Божия в человеке — А.М. ], — говорит о. Павел Флоренский, — старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называли аскетику. Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличие чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету» 10 .
Замечательно, что славянские переводчики греческой «Филокалии», собрания богословско-аскетических текстов, перевели это название словом «Доб-ротолюбие», еще раз «растворив эстетическое в общежизненном» и напомнив нам о целокупном единстве «красоты» и «добра» в реальности высшего порядка — будь то мир, вышедший из рук своего Творца, будь то естество человека, возделанное в опыте молитвенной аскезы и очищенное святыней Божией благодати.
Аскеза, понятая как «художество» и художество, целополагаемое внутри христианского домостроительства и тем самым подчиненное аскезе, сообразованы с мыслью Самого Творца о творении, с образом божественного творчества. При этом, однако, в заметном отличии от греческой и любой другой внебиблей-ской традиции, божественное творчество, его целокупное содержание, подчеркнуто апофатично, таинственно, а значит, принципиально несводимо к какому бы то ни было аналогу в области тварной реальности. Какое бы то ни было наиме- нование божественного творчества в этом случае не может стать определением: все известное нам из опыта собственно человеческой реальности не только должно быть сведено к минимуму, как бы «номинализировано» в отношении к реальности божественной, но и существенно переосмыслено в порядке движения от «образа» (копии) к «символу», от «тождества» к «соответствию» и, наконец, от различия c Богом по естеству к подобию Ему по образу существования.
Св. Василий Великий в беседах на Шестоднев говорит: «Премудрый Моисей, желая показать, что мир есть художественное произведение, подлежащее созерцанию всякого, так что через него познается премудрость его Творца, не другое какое слово употребил о мире, но сказал: в начале сотвори» — именно, как уточняет далее св. Василий, — «не сделал, не произвел, но сотвори». Мини-мализируя, а, в конечном счёте и исключая возможность однозначно определить характер и сущность творчества, св. Василий подчеркивает: «Бог был для мира не сим одним — не причиною только бытия, но сотворил как благий — полезное, как премудрый — прекраснейшее, как могущественный — величайшее» 11 .
Особенно выразительно апофатически подчеркнутая целокупность божественного творчества проявляет себя в ее соотнесении с привычным для антично-средневековой философии различением четырех причин: производной, материальной, формальной и целевой. Бог — Творец в христианском Откровении сопрягает в Себе, так сказать, «полноту причинности» и поэтому не сводится в своем творчестве к какой бы то ни было из причин в отдельности.
Самая же эта полнота творческих энергий в Боге, опять-таки сказывается в самом творении красотой. Превосходя эллинский «демиургизм», библейское откровение указует на тайну «творения из ничего»: ни материя, ни форма, ни цель ни в каком смысле не внеположны Творцу; Он Сам и зиждитель, и цель, и, как таковой, являет творчество свободным даже от материала.
Если у греков внутренней скрепой вечного космоса выступает мера, у христиан это полнота как преизбыток бытия: припомним библейское «добро зело».
Обратным полюсом такого преизбытка бытия оказывается уже не ущерб только, не отсутствие меры, но радикальное «ничто». И тогда скрепой христианского космоса может быть лишь энергия избытка или, говоря иначе, творчество любви. «И целый мир, — говорит св. Василий Великий, — состоящий из разнородных частей, связал Он (Бог) каким-то неразрывным союзом любви в единое общение и одну гармонию, (явив) могущество, непостижимое для разумения и вовсе неизреченное на человеческом языке!..»12. Любовь, превосходя удел средства и орудия (т.е. значение инструментальной причинности) становится, в данном случае, началом зиждительным — источником всего сущего и, одновременно, его нерасторжимой связью. В конечном счете, снова перед нами некая паче-естественная («неизреченная на человеческом языке») взаимо-срастворенность любви и красоты, «прекрасного» и «доброго». Именно в силу такой взаимосрастворенности все сущее приобретает «благоустроение»: внутреннюю собранность, осмысленность, оправданность и убедительность. «Прекрасное, — пишет Дионисий Ареопагит, — называется красотой потому, что от него сообщается собственное для каждого очарование всему сущему; и потому, что оно причина благоустроения и изящества всего и наподобие света излучает всем свои делающие красивыми преподаяния источаемого сияния; и потому, что оно всех к себе привлекает («калу н»), отчего и называется красотой («ка́ллос»); и потому, что оно все во всем собирает в тождество»13. Дионисий в данном случае этимологически сближает «быть красивым», «каллос», и «привлекать», призывать к единению, «калун», тем самым опять же актуализируя в эстетическом его онтологическое, «общежизненное» содержание.
Творение, собранное в некоем выше-естественном тождестве, в каковом и сообщается «очарование» всему многообразию сущего, сияет, по Дионисию, изяществом и красотой. Другим именем этого преизбытствующего бытием «сияния» является в Св. Писании и Предании Церкви «слава Божия». В этом понятии-теологеме, как и в синонимичном ему, понятии красоты онтологическое и эстетическое изначально сопряжены. И сопряжены, прежде всего, в Самом Боге, ибо «слава (Божия), — как говорит святитель Филарет (Дроздов), — есть откровение, явление, отражение, облачение внутреннего совершенства. Бог от вечности открыт Самому Себе в вечном рождении единосущного Сына Своего и в вечном исхождении единосущного Духа Своего — и таким образом единство Его во Святой Троице сияет существенною, непреходящею и неизменяемою славою. Бог Отец есть Отец славы; Сын Божий есть сияние славы Его и Сам имеет у Отца Своего славу прежде мир не бысть; равным образом Дух Божий есть Дух славы. В сей собственной внутренней славе живет блаженный Бог превыше всякой славы, так что не требует в оной никаких свидетелей и не может иметь никаких участников. Но как по бесконечной благости и любви Своей Он желает сообщить блаженство Свое, иметь благодатных причастников славы Своей, то подвизает Он Свои бесконечные совершенства, и они открываются в Его творениях: Его слава является небесным силам, отражается в человеке, облекается в благолепие видимого мира. Она даруется от Него, приемлется причастниками, возвращается к Нему — и в сем, так сказать, кругообращении славы Божией состоит блаженная жизнь и благобытие тварей»14.
Но «благобытие тварей», согласно преп. Максиму Исповеднику, — это задание, к осуществлению которого человек был призван и от которого он уклонился грехопадением. Само грехопадение, в контексте нашей темы, может быть во многом понято как разрыв — прежде всего, в человеческом изволении о Боге, о мире и о себе, а затем и в устроении сущего, — разрыв исконной сопряженности онтологического и эстетического. «И увидела жена, — читаем мы в книге Бытия, — что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание…» (Быт 3:6).
Сначала в сознании, а затем и в поступке человека (впрочем, это «затем» есть уже свойство расщепленного бытия) происходит движение дарованного Богом сущего из состояния его целокупной бытийственной укоренённости в Божией воле к состоянию этой воле противоречащему: целостность добра, красоты и истины оборачивается автономностью утилитарного («хорошо для пищи»), эстетического («приятно для глаз») и рационалистического («дает знание») начал.
Вместе с распадом исконной целостности творение совлекается славы Божией; человек, прикрывая наготу своей обособленности, облекается в «кожаные ризы», сотворчество Богу в возделывании и хранении творения подменив скорбью и потом бесславного труда.
Из опыта такой взаимообособленности истины, добра и красоты в человеческой истории свидетельство, например, апостола Павла о том, что «невидимое (Бога), вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1:20) или утверждение Псалмопевца о том, что «небеса проповедуют славу Божию» (Пс 18:2), как и другие свидетельства откровения о явленности присутствия Божия в Своем творении, — должны быть осознаны уже не как реальность искомого «благо-бытия», но, одновременно, и как обнаружение эсхатологического задания человеку, и как суд над ним: «Ибо, — по слову того же апостола — открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им…так что они безответны» (Рим 1:19, 20).
«Естественное созерцание», как наименовано в византийском богословии апостольское «рассматривание творений», становится возможным для падшего человека лишь после освоения им «практической философии», то есть в меру его свободы от страстей. «Подлинная и самая усладительная красота, — говорит св. Василий Великий, — созерцается только очищенным умом» 15 .
Бог остается верным Себе: Его присутствие — всецело красота, всецело истина, всецело добро. Человек, эксплуатируя реальность в модусе обладания, как это свойственно ему в его тотальной обособленности, знает и сущее как часть никогда не досягаемого целого.
Область эстетического в такого характера бытии оказывается особенно соблазнительной, так как по своей природе оно есть начало оформляющее, внем реальность сущего представлена в своей — эстетически всегда возможной! — завершенности. Опасность эстетического в том, что оно изнутри своей собственной природы наиболее расположено скорыми, но кружными путями воображения и страсти оформлять наличность жизненного целого, как бы освобождая сознание от смирения перед незавершимой реальностью, подменяя тем самым событие представлением.
Такая особенность эстетического в духовной жизни христианства сродни хилиазму с его стремлением пережить полноту царства Божия в границах исторического времени и пространства, — восхи тить иной порядок бытия (c его вышеестественной целостностью) в пределах и на почве посюстороннего эмпирического существования. «Хилиастичности» сознания в христианском опыте противостоит и от неё исцеляет уже упомянутый нами эсхатологизм.
Эсхатологизм знает откровение о красоте в падшем мире как посыл к аскетико-символическому устроению человека: открывающееся в таком случае не дано, а задано, и ищущий ему сопричастия сам открыт суду Открывающегося.
«Красота, — пишет Христос Яннарас, — проявляется как трагический призыв к недосягаемой полноте жизни»16. Космизм, выразительная наглядность античной эстетики уступает здесь место радикальной интериоризации (как бы свертыванию внутрь) подлинной, бытию сопричастной красоты. В пределе — в мире, отчужденном от целокупности Божьего замысла о нем — красота, как бы срастворенная укорененному в Боге бытию, может и даже должна обернуться перед лицом этого мира, если не без-образием, то — «безвидностью». Достаточно вспомнить образ грядущего Мессии из 53 главы книги пророка Исайи: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему» (Ис 53:2). Ничего не остается здесь от сакраментальной зрелищности греческого умозрения. Равнодушной к судьбам личности и истории красоте античного космоса противопоставлена в христианстве красота Церкви, и таковой — в самом строгом и собственном смысле — является Крест. Поскольку в падшем мире — мире, «во зле лежащем» — красота, изменив своей сопричастности истине и добру, стала лживой и соблазнительной, Спаситель пришел в безвидности, нищете и почти безвестности, чтобы усвоить силу спасения, силу присно-и благо-бытия, орудию позора и смерти. «Бог избрал немудрое мира, — говорит апостол, — чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор 1:27–29).
Крест — красота Церкви, потому что на нем Бог благоволил «собрати расточенная» и превозмочь самую смерть, сызнова приобщив человека к источнику бессмертия, самой божественной жизни. «Познавший таинства Креста и Гроба, — говорит прп. Максим Исповедник, — познает и цель, ради которой Бог первоначально привел все в бытие» 17 .
Онтологизм красоты, сама она как образ целокупного осуществления жизни, сызнова и исчерпывающе обретает себя в таинстве Креста Христова, потому что только отречение от всяких притязаний — внутри самого этого отречения — освобождает сущее для его осуществления в полноте. Красота, как целокупное устроение бытия, — в мире, одержимом насилием, — сбывается там, где Сам Вседержитель отказывается как бы то ни было сопротивляться насилию, отлагает от Себя не только внешнюю силу, но и убедительность диалектической истины или моральной правды, также, в их притязательности, несвободные от воли к принуждению18. Ведь всякое притязание расщепляет, дробит, множит, обособляет и отчуждает сущее. Всякое притязание, даже притязание на целостность — внутри себя, как притязание именно — нецелостно. И напротив — полнота самоотречения совпадает с полнотой осуществлённости, с це-локупностью как таковой. А это и есть красота, мотивирующая и убеждающая исключительно самою собою, — тем, по слову М.Ф. Достоевского, «непосредственным, ужасно сильным, непобедимым ощущением, что это ужасно хорошо». «Есть нечто, — настаивает он далее, — гораздо высшее бога-чрева. Это — быть властелином и хозяином даже себя самого, своего я, пожертвовать этим я, отдать его — всем. В этой идее есть нечто неотразимо прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое»19.
Именно Достоевскому, особенно остро переживающему, как мы знаем, «эстетизацию» красоты, выпадение её, как «только эстетического», из целокуп-ного единства с «истиной» и «добром», присуще было и глубокое понимание названного единства20. « Нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты», — писал он21. Это о подчинённом положении этического по отношению к той правде и благостыне бытия, которые опознаются «чувством красоты». О такой же подчинённости гносеологического Достоевский пишет в том, что он назвал своим «символом», текст которого хорошо известен: «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»22.
Трудно не отметить сходство этого «символа» Достоевского с исповеданием раннехристианского писателя 2-го века священномученика Игнатия Антиохийского (Богоносца), в одном из посланий которого находим: «Одна молитва, один ум, одна надежда в любви, в непостигаемой радости, — то есть Иисус Христос, милее (ἄμεινον) Которого ничего нет». (Магнезийцам. 7; в переводе свящ. Павла Флоренского).
Но как Христос облек полноту Своего божественного присутствия в «невзрачность» человеческого существования, возвел на крест, — так и в русской культуре, особенно в ее, так сказать, внехрамовом (не слишком обширном и не слишком даже привычном) пространстве, свойственна прикровенность и застенчивость целомудренного отношения к красоте. Здесь дивное живое противоречие: с одной стороны, красота есть воплощенность истины и добра, а в начале начал — воплощенность Самого Бога, с другой, как бы человеческой уже, стороны, — красота именно в силу реальности и, так сказать, осязаемости своего присутствия в охранительно-восприемлющем её движении человеческой души сторонится яркого света сознания, таится от слишком определённых форм для своего выражения. Красота в опыте русской духовности, будучи её истоком и содержанием, опознается, усматривается, однако, как то, что выражаясь словами Ф.И. Тютчева, лишь «сквозит и тайно светит» в «смиренной наготе» (а порой и безобразии) исторического существования.
Но ведь и само Священное Писание символически говорит о том же: «вся слава дщери царевы внутрь» (Пс 44:14). И слова эти стали неистощимым источником для глубокомыслия святоотеческой экзегезы, знающей и хранящей красоту Христа и Его Церкви в потаенности и уничиженности их земного бытия.
Красота в русской культуре как бы не для «прямой речи» о ней. Вульгаризированное расхожим употреблением «Красота спасет мир» Ф.М. Достоевского у него самого совсем не лозунг, не манифестация. На самом деле, как верно отмечает С.Г. Бочаров, «еще предстоит понять смысл достаточно сложного и странного структурного решения автора в «Идиоте»: дважды другие персонажи напоминают князю эти слова как сказанные им где-то за кадром романного действия, они, таким образом, являются в тексте по воле автора уже как цитата из князя, как эхо где-то когда-то им сказанного — хотя он присутствует тут же и, кажется, мог бы произнести их сам как свое прямое слово. Но воля автора отчего-то была ввести их столь косвенным и приглушённым образом. Или же мог бы хотя бы как-то князь на это напоминание отозваться — не отзывается. Словно бы, выпустив на свет эти пламенеющие слова, автор в тоже время их утаил — и после «Идиота» их открыто не заявлял»23.
В русском умозрении и в русской художественной культуре в их взаимопроникновении нет места «категориальному» отграничению «красоты» от действительно смежных ей областей прозаического существования, с одной стороны и обобщенно-философского смысла — с другой. Пушкинский Моцарт (и, конечно же, сам Пушкин) не гнушается ущербным трактирным «парафразом» своей музыки, — оставляет ему свое место в бытии — так же, как он приемлет не-романтическое сосуществование творчества с прозаической повседневностью.
Эта «неразграниченность», а значит и незамкнутость поэзии и прозы есть ведь и реликт былой целокупности, и негромкое пророчество об её тайном присутствии. В конкретном художественном опыте эта особенность русской культуры сказывается, своего рода «незавершённостью формы». «Для русского искусства, — с замечательной наблюдательностью и проникновением пишет об этом Н.Я. Берковский, — характерна незавершённость формы — в нём нет пафоса досказывания, доведения до последних слов и черт, оно не боится, если даже в заключительном акте красота окажется полусвободной, обременённой некрасивостями, неотделённой от почвы бедной повседневности. Проза у нас не только открыто лежит у начала поэзии, не только ведёт поэзию, но и в самом конце их совместного развития, когда поэзия уже сложилась и готова к самостоятельности, проза всё ещё держит ее в своей власти, окружает её, и наших художников не беспокоит это присутствие прозы даже в завершающую минуту, когда жизнь достигает своих поэтических итогов» 24 .
Даже в самих по себе разрушительно-агрессивных формах кинематографа, как будто нарочито противопоставленных тайне эстетического целомудрия, подлинно русским художником, в его умозрении о красоте, руководит стрем- ление к «косвенной речи», созерцательному безмолвию, прикровенности и тишине. «Это слишком красиво», — так нередко Андрей Тарковский, к досаде и обескураженности окружающих, мотивировал свой отказ включить в монтаж уже отснятый материал, а иногда — отказ и от самой съёмки той или иной натуры. Как и у Достоевского, например, на страницах «Идиота», это «слишком красиво» относится к предельной, как бы неуместной в своей поспешности, обнару-женности красоты, к нравственно-онтологически ещё неоправданному, а значит мнимому её торжеству.
Обнаружение и торжество красоты в перспективе христианской истории связано с ее эсхатологическими свершениями, с новым явлением Христа, «паки грядущего со славою судити живым и мертвым», — и таким образом имеет пасхальный характер. Различение «теперешнего» и «грядущего», притом, что «грядущее» скрыто присутствует и совершается в таинстве Церкви, — очень важно и составляет существенное качество христианской аскезы. Только изнутри такой аскезы может стать внятным для нас сопряжение «эстетического» и «а-эстетического» в христианском духовном опыте. «Эстетическое», в богослужении, например, оправдано только потому, что оно знаменует грядущую полноту пасхального торжества и неприемлемо, — как прелесть, — поскольку увязает в психологии самодостаточного любования, «обслуживает» автономность душевных переживаний. Об этом с радикальной решимостью говорит митрополит Антоний Сурожский: «Мы исповедуем Христову веру, но мы из всего сделали символы. Вот мне всегда в душу ударяет наше богослужение на Страстной. Вместо креста, на котором умирает живой молодой Человек, у нас прекрасное богослужение, которым можно умиляться, но которое стоит между грубой, жуткой трагедией и нами. Мы заменили крест — иконой креста, распятие — образом, рассказ об ужасе того, что происходило, — поэтически-музыкальной разработкой, и это, конечно, доводится до человека, но вместе с тем человеку так легко наслаждаться этим ужасом, даже пережить его глубоко, быть потрясенным и — успокоиться, тогда как видение живого человека, которого убивают, совершенно иное. Это остается как рана в душе, этого не забудешь, увидев это, никогда не сможешь стать таким, каким был раньше. И вот это меня пугает, — в каком-то смысле красота, глубина нашего богослужения должны раскрыться, надо прорвать его, и через прорыв в нашем богослужении провести всякого верующего к страшной и величественной тайне того, что происходит» 25 .
Вере приоткрывшаяся тайна присутствия Божия и красота, в горизонте пасхального преображения это присутствие удостоверяющая, в реальности истории и аскезы еще, а часто и далеко не совпадают. Это несовпадение остается уделом нашего земного странствования: одновременно и условием сохранения духовной трезвости, и заданием для обретения духовных даров.
Список литературы Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры
- Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики//Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 371-397.
- Антоний (Сурожский), митр. Церковь. Киев, 2005.
- Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975.
- Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
- Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. СПб. 1994.
- Достоевский Ф.М. Записные книжки. М., 2000.
- Достоевский Ф.М. Об искусстве. М. 1973.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 10 т. М., 1958.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики (ИАЭ). Итоги. М., 1994.
- Лосев А.Ф. ИАЭ. Ранний эллинизм. М., 1979.
- Максим Исповедник, прп. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. 66//Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 1. М., 1993.
- Платон. Собрание сочинений. М., 1994.
- Повесть временных лет//Художественная проза Киевской Руси 11-13 вв. М., 1957.
- Василий Великий, свт. Беседа на Псалом 29//Василий Великий, свт. Творения. Сергиев Посад, 1900.
- Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев//Василий Великий, свт. Творения. Св.-Троицкая Сергиева Лавра. Сергиев Посад, 1900.
- Филарет Московский, свт. Слово на Рождество Христово/Филарет Московский, свт. Слова и речи в 4-х т. Т. 1. М., 2009.
- Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
- Флоренский П.А., свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения//Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
- Харт Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. М., 2010.
- Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М., 2005.