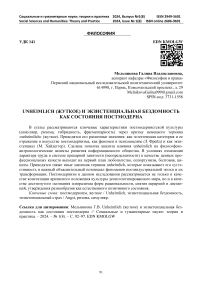Unheimlich (жуткое) и экзистенциальная бездомность как состояния постмодерна
Автор: Мельникова Г.В.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (8), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются ключевые характеристики постмодернистской культуры (симулякр, ризома, гибридность, фрагментарность) через призму немецкого термина «unheimlich» (жуткое). Приводятся его различные значения: как эстетическая категория и ее отражение в искусстве постмодернизма, как феномен в психоанализе (З. Фрейд) и как экзистенциал (М. Хайдеггер). Сделана попытка анализа влияния unheimlich на философско-антропологические аспекты развития информационного общества. В условиях изменения характера труда в системе прекарной занятости (неопределенности) в качестве ценных профессиональных качеств выходят на первый план любопытство, оппортунизм, болтовня, цинизм. Приводятся также иные значения термина unheimlich, которые показывают его суггестивность и важный объяснительный потенциал феноменов постиндустриальной эпохи и их трансформации. Постмодернизм в данном исследовании рассматривается не только в качестве констатации кризисного положения культуры деонтологизированного мира, но и в качестве достигнутого осознания плюрализма форм рациональности, снятия иерархий и дистанций, утверждения разнообразия как естественного позитивного состояния.
Постмодернизм, жуткое / unheimlich, экзистенциальная бездомность, экзистенциальный страх / angst, ризома, симулякр
Короткий адрес: https://sciup.org/147244300
IDR: 147244300 | УДК: 141
Текст научной статьи Unheimlich (жуткое) и экзистенциальная бездомность как состояния постмодерна
Человек с начала осознания себя ощущал свою амбивалентность, несводимость, неаб-солютность, неопределяемость, свое вечное маргинальное положение. Воплощенным апогеем тотальной неопределенности становится эпоха постмодернизма как идея децентрализации, неустойчивости, охватившая мир в середине ХХ в. и воплотившаяся в западной философской мысли и эстетике. Ф. Лиотар, формулируя характеристики и причины постмодернизма, назвал свой труд «Состояние постмодерна», что в полной мере отражает значимость чувственных, эмоциональных составляющих постмодернизма как манифеста разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс и торжество разума. Как следствие, сформировалось специфическое видения мира как текста, сплетенного из причудливых языковых игр, мира децентрированного, предстающего сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов.
На сегодняшний день актуальность обращения к постмодерну как состоянию культуры информационного общества объясняется прежде всего тем, что он эксплицитно представил всю палитру страхов, которые осторожно начал формулировать модерн на высокой ноте своего разочарования, постулировал конец времен, преодолел его и продолжился в необъятном количестве «пост-постмодернизмов», каждый из которых отражает определенную грань изменяющегося мира. На подступах к постмодернизму стала складываться новая иррационально-субъективная форма миропостижения, сотканная из утраты доверия к метанарративам, отчаяния и осознания краха рациональности. Предчувствование, предслышание, предощу- щение постмодерна можно найти в произведениях М. Хайдеггера, Ф. Ницше, С. Кьеркегора, Ф. Кафки, В. Беньямина, Л. Шестова.
Термин «unheimlich» (нем. «жуткое»), попавший в фокус подробного рассмотрения немецких мыслителей З. Фрейда («Жуткое», 1919) и М. Хайдеггера («Бытие и время», 1927), на наш взгляд, довольно точно описывает зарождающееся в конце XIX – начале XX вв. состояние постмодерна. При этом интересным аспектом изучения является полисемантизм понятия Unheimlich, когда каждая грань его смысла, то сближаясь, то вступая в противоречие друг с другом, помогает обозначить целую серию социальных и культурных явлений современного общества, проанализировать причины их существования и деформации.
Фрейд помещает Unheimlich из эстетической категории в поле психоанализа и рассматривает в качестве модуса жуткого «сомнение в одушевленности кажущегося живым существа», которое могут внушить двойники, куклы, роботы, восковые фигуры [1]. Unheimlich имеет корень heim – «дом», и un – отрицание. От этого корня образованы heimlich (уютное), heimisch (родное), heimweh (тоска по дому), а также geheim (потаенное), geheimnis (тайна). Фрейд отмечает, что ни один из переводов не отражает всех оттенков смысла немецкого Unheimlich. Например, в русском переводе – «жуткое» – пропадает отрицание (которое у Фрейда приобретает силу психологической защитной реакции, вытеснения) и корень heim.
Русской калькой перевода unheimlich, таким образом, является бездомное, бесприютное. В немецком языке в значении экзистенциальной бездомности оно рассматривается у Хайдеггера, приближенном к «das Un-zuhause» (в пер. Бибихина «не-по-себе»).
Если метафорой дома считать метанарративы, то состояние тотальной бездомности идеально описывает состояние постмодерна с его утратой веры в христианские идеалы, разум, прогресс. Воплотилась эта бездомность в плюрализме истин и расщепленном субъекте; атональной музыке, алеаторике и фрагментарности в искусстве, бездомности смыслов – абсурде; смерти автора, подчеркнутой цитатности и вторичности культуры; беспредпосылоч-ности познания. Постмодернистская ситуация в мышлении и кризисное мировосприятие были подготовлены геополитической ситуацией XX в. – мировыми войнами, Холокостом, расколом мира на полюса.
Жуткое, ужасное, злое в искусстве постмодернизма перестает существовать лишь через противопоставление доброму и прекрасному, но становится автономным и самодостаточным. Подчеркнутая цитатность, неоманьеризм, эстетика фрагментарности (особенно в литературе) свидетельствует об идеологическом кризисе, переживаемом разваливающимся миром, в котором становится невозможным утвердить мысль о прогрессе, силе разума и торжестве истины.
Таким образом, Unheimlich может рассматриваться в 3-х основных значениях: 1) как эстетическая категория, затем 2) как феномен психоанализа, и 3) у М. Хайдеггера Unheimlich выводится на высоту одного из экзистенциалов Dasein.
В трактате «Бытие и время» в Unheimlichkeit акцентируется не «жуткое», а «бездомность-неприкаянность» на краю той бездны Ничто, что шевелится под Бытием. Экзистенциальный модус unheimlich, рассмотренный М. Хайдеггером, по своему воздействию на человека, сближается со своим антиподом – кантовским «возвышенным». «Страх, связанный не с эмпирической опасностью, а с трансцендентным, с тоской бытия и небытия» [2], заставляет осознать свою конечность и ограниченность, и этим вопрошанием мира и себя позволяет подняться над обыденностью, извлечь «присутствие назад из его падающего растворения в мире» [3]. «Благодаря этому страху «повседневная свойскость подрывается. … Эта жуть постоянно настигает присутствие и грозит, пускай неявно, его обыденной затерянности в людях» [3]. «Страх – это то, что делает человека – человеком.... Если бы человек был ангелом или зверем, он не мог бы страшиться», – говорит Кьеркегор, имея ввиду Angst, страх, создаваемый самим человеком [4, с. 242]. «Страх перед волками в средневековой деревне, сказки про них, хождение с оружием не были ни объективно, ни субъективно патологическими, не раскалывали субъекта, не делали его неадекватным» [5], тогда как ощущение экзистенциальной бездомности оставляет его наедине с собой, одиноким в своем страхе.
Постмодернизм через диалог с бесконечной вариативностью конституирует освобождение от структурной упорядоченности, достигает апофеоза unheimlichkeit, напряженно удерживает полярности и, подобно героям абсурдистских вселенных Франца Кафки, «обживает» мир тотальной бездомности, примиряет с участью жить в ее призрачном пространстве. Важная мессианская роль постмодерна, лицом к лицу столкнувшего нас с жутким и бездомным Ничто, – это достигнутое осознание плюрализма форм рациональности, снятие иерархий и дистанций, утверждение разнообразия как естественного позитивного состояния.
Бездомность времени, которая возникает в постмодернизме, порождает «странное ощущение почти бесконечности, сопровождаемое легким головокружением» [6, с. 9]. Так описывает Борхес художественный прием mise en abime (история внутри истории, картина в картине). Человек информационного общества действительно рекурсивно оказывается помещенным в бездну историй, т.к. одновременно живет как бы во всех измерениях. Постмодерн предстает как сумма конечностей и припоминаний уже того, что было, подобно тому, как у Достоевского черт описывает Землю: «...Ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...» [7, с. 158]. Рекурсивна и всемирная сеть с ее гипертекстуальностью, она также бесконечно повторяет себя, свою структуру и соотношение частей. Интернет возникает как аллегория живого и его развития с бесконечными самоизменениями, как проект построения тотального искусства, способного отразить единство жизни, как воплощение крайнего, утопического или антиутопического сотворения мира.
Фрейд интерпретировал один из модусов unheimlich как неопределенность границ между живым и неживым, ощущение возврата чего-то архаического, и видел в сопровождающей его тревоге связь с принуждением к повтору, идущим от влечения к смерти. В своем трактате «Жуткое» Фрейд анализирует рассказ Гофмана «Песочный человек», где механическая кукла Олимпия поначалу кажется живой, и главный герой даже влюбляется в нее, но постепенно, согласно эффекту «зловещей долины», вызывает отвращение. Можно, таким образом, определить жуткое как смешение органического и неорганического, вторжения неживого в ткань жизни.
В качестве вытеснения, психологической защиты в условиях все возрастающей технофобии и все большей похожести роботов на людей во второй половине ХХ в. распространилось явление ретрофутуризма в популярном искусстве – иронической ностальгии по оптимизму и вере в прогресс времен промышленной революции.
Бесконечное повторение в искусстве поп-арта представляет собой воплощенный эффект жуткого фрейдовского двойничества, когда воспроизводящее означаемое оказывается иллюзией или миражом. Эффект симулякра, о котором Фуко пишет в своем эссе о Магритте «Это не трубка»: «Наступит день, когда силой подобия, бесконечно разносящегося по сериям вещей, сам образ вслед за именем, которое он несет на себе, утратит самотождественность. Кэмпбелл, Кэмпбелл, Кэмпбелл, Кэмпбелл» [цит. 8, с. 225]. Симуляция жизни или, наоборот, танатоз, производимый взаимоотношениями тех или иных означающих, бесконечное повторяемых, открывающих головокружительную перспективу отражающих друг друга зеркал, когда уже невозможно отделить оригинал от копии, а живое от мертвого. В эпоху технической воспроизводимости симулякр, хотя бы в форме иллюзии, пытается приблизить на расстояние вытянутой руки разверзшийся глобальный мир, одомашнить (daheim) его, сделать уютным и доступным.
Воплощением тотальной бездомности постструктуралистского мира и идеалом ницшеанского нигилизма становится модель ризомы, которая строится как явное и прямое противоречие аристотелевской эстетической традиции, предполагающей противопоставление сущности и явления, реальности и образа, мира умопостигаемого и мира чувственного. Внутри ризомы, напротив, деконструированы бинарные оппозиции – разум/чувство, те- ло/дух, субъект/объект, природа/культура, гендерные различия мужчина/женщина, даже че-ловек/животное и человек/объект. Постколониальный дискурс постмодернисткой эпохи также предлагает видение мира, который больше не разделен на бинарные структуры – первобытный, дикий/цивилизация, взаимно исключающие друг друга, но отмечен непрекращаю-щимся движением взаимопроникновения, амбивалентностью, возникновением «третьих пространств», устанавливает новые структуры власти. В качестве противопоставления глобальной открытости мира происходит обособление национальных правовых систем, провозглашение суверенитетов, возникают неоконсервативные идеологии.
Тревожное эмоциональное состояние неопределенности unheimlich можно связать и с изменением современного характера труда. Распространение мнимо самостоятельного труда, использование временного найма, глобализация экономики в целом приводят к нестабильности трудовой занятости, отсутствию привязанности к определенному месту работы и социальных гарантий, неуверенности в завтрашнем дне – прекариации. В качестве приспособления к новым условиям постфордистского труда можно считать формирование нового антропологического типа – любопытного, оппортуниста, циника, болтуна. Идеальный представитель общества постмодерна виртуозно оттачивает «чувствительность к различиям» и воспитывает в себе «способность выносить взаимонесоразмерность» окружающего мира. [9, с.12]
Любопытство и болтовня были возведены в ранг философских категорий еще М. Хайдеггером, однако у него они являлись признаками «падшести», «неаутентичной жизни» и устранения в праздность [10, с. 112]. Теперь же, в обществе символического труда они становятся ценным профессиональным ресурсом. Болтовня безосновна, она сама детерминирует событие, она обладает необходимым в условиях инновационного пути развития «экономики знаний» потенциалом новизны. В рассеянном любопытстве «чувства присваивают качества мышления», современный человек в условиях хронической нестабильности приучается к неожиданному и удивительному, привыкает неизвестное считать известным [10]. Оппортунист также может противостоять течению взаимоисключающих возможностей, находясь в ситуации готовности по отношению к наибольшему их числу. П. Вирно отмечает, что в условиях современной производственной динамики «безосновательная болтовня» и радикальная «рассеянность» становятся свойствами современного множества [10]. Знаменательна смена знака интеллектуальной неуверенности, «непосебейности»/unheimlich [1]: отныне это прирученное, управляемое свойство, которое становится практикоориентированным и полезным. Фигура циника, по мнению Паоло Вирно, возникает под влиянием Общего интеллекта и неожиданно возникшей центральности знания в производстве, которые нарушили принцип эквивалентности. Циник «разжижает и умножает иерархию и неравенство», вследствие этого резистентен и равноудален.
Таким образом, рассмотрение категории unheimlich в различных модусах и оттенках смысла и перевода позволяет рассматривать ее в качестве важного онтологического основания постмодернистской эстетики, философии, а также причины формирования нового антропологического типа. Одно из важных значений unheimlich, которое отмечает Фрейд: «жуткое – то, что должно быть скрыто, но внезапно обнаружило себя» [цит. по 1]. Поэтому потенциал термина в описании и объяснении современного мира может быть выявлен также в связи с понятием Gestell (постав) Хайдеггера, которым он называет суть установки современной техники выводить действительное из потаенности. А также в связи с мессианским временем, в котором мы (например, по мнению Беньямина и Агамбена) существуем, т.к. «heim» (жилище, кров, укрытие) с отрицанием «un» сближается с «от-кровение» (греч. ἀποκάλυψις – новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова).
Список литературы Unheimlich (жуткое) и экзистенциальная бездомность как состояния постмодерна
- Фрейд 3. Жуткое // Фрейд З. Влечения и их судьба. М.: ЭКСМО-пресс, 1999. 432 с.
- Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. 336 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Ад Маргинем, 1997. 252 с.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 382 с.
- Магун А.В. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. M.: Новое литературное обозрение, 2011. 544 с.
- Борхес Х.Л. Семь вечеров. М.: Амфора, 2000. 204 с.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 12 томах. М.: Правда, 1982. Т. XII. 541 c.
- Фостер Х., Краусс Р., Буа Ив-Ален и др. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 816 с.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. H.A. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998. 160 с.
- Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. 174 с.