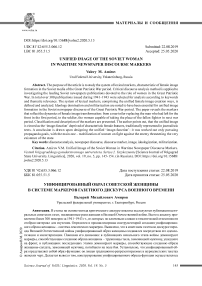Унифицированный образ советской женщины в системе маркеров газетного дискурса военного времени
Автор: Амиров Валерий Михайлович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе метода критического дискурс-анализа исследуются публикации центральных советских газет, посвященные роли женщин в Великой Отечественной войне. Всего к анализу привлечено более 300 номеров за 1941-1943 гг., из которых по ключевым словам и тематической отнесенности отобран материал для изучения. Определен и проанализирован инструментарий создания унифицированного образа женщины - система лексических маркеров. Выявлено, что в советском газетном дискурсе периода Великой Отечественной войны унифицированный образ женщины создавался посредством его идеологизации и милитаризации. Показана его динамика: в публикациях начального этапа войны доминируют маркеры, способствующие созданию образа женщины - труженицы тыла, заменившей мужчину, ушедшего на фронт, в публикациях последующих этапов доминируют маркеры, способствующие созданию образа женщины-солдата, заменившей мужчину, погибшего на поле боя. Установлено, что унифицированный образ представляет собой образ-функцию: он лишен традиционно репрезентируемых в журналистских текстах женских черт. Делается вывод о том, конструирование унифицированного образа-функции осуществлялось исключительно для решения пропагандистских задач, главная из которых - мобилизация женщин на борьбу с врагом, угрожающим самому существованию государства.
Дискурс-анализ, газетный дискурс, маркер дискурса, образ, идеологизация, милитаризация
Короткий адрес: https://sciup.org/149131591
IDR: 149131591 | УДК: 81’42:655.3.066.12 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.5.13
Текст научной статьи Унифицированный образ советской женщины в системе маркеров газетного дискурса военного времени
DOI:
Непрерывно растущее количество публикаций СМИ, посвященных проблематике современных военных конфликтов, актуализирует задачу изучения газетного дискурса Великой Отечественной войны. Его особенностью является детерминированность идеологическими концептами, а также тем обстоятельством, что перед газетами, находившимися под строгим партийно-политическим контролем, стояла задача информационного обеспечения успешного противостояния Красной армии немецко-фашистской военной машине, угрожавшей самому существованию советского государства.
Одним из показателей предельной мобилизации Советским Союзом сил для борьбы с фашизмом является привлечение к фактически ненормированному труду на производстве и к непосредственному участию в боевых действиях женщин. Агитация, обращенная к женщинам, которых руководство страны зовет на заводы, фабрики, в шахты и на поля, а позднее и на фронт, – важнейшая часть газетного дискурса.
Материал и методы исследования
В работе анализируются публикации в ведущих советских газетах 1941 г. (начальный период войны) и 1943 г. (стратегический перелом в ходе боевых действий) для выявления политических маркеров, фиксирующих роль женщин в достижении победы над грозным врагом. Всего изучено более 300 номеров газет «Красная Звезда», «Правда» и «Комсомольская правда», из которых по ключевым словам и тематической отнесенности отобраны публикации, посвященные женщинам на войне. Показательны заголовки этих публикаций: «Девушки, вас ждут заводы!», «Анна Лаптева и ее подруги», «Марина Абрамова», «Жен- щины на партийной работе», «Стахановские дела творцов оружия – Антонины Тихоновой и ее подруг», «Славные дела советских патриоток», «Девушки, на производство!», «Советская женщина – великая сила», «Фашизм – злейший враг женщин. Смерть фашизму!», «Учительница из Жашкова», «Письма Наташи Ковшовой» и мн. др.
Исследование базируется на принципах критического дискурс-анализа, модель которого была впервые предложена философом Мишелем Фуко. В соответствии с его концепцией дискурс – это «совокупность высказываний, принадлежащих к одной и той же системе формаций» [Фуко, 1996, с. 108], то есть конкретному историческому периоду или какому-то социуму. В качестве ключевых элементов, определяющих дискурс по Фуко, исследователи выделяют идентичность, субъективность, дискурсивное событие, дискурсивные практики, дискурсивные формации и т. д. [Савельева, 2015, с. 93].
Развивая идеи М.Фуко, Р. Водак предложила в ряде своих работ дискурсивноисторический подход, который позволяет рассматривать дискурс с учетом социального, политического, исторического аспектов (см.: [Wodak, 2015]). Об этом же пишут и многие российские ученые, например В. Чернявская, указывающая на то, что смысл дискурс-анализа заключается в соотнесении текста «с экстралингвистическим фоном, со спецификой коммуникативной ситуации, социокультурными, историческими, этническими и прочими факторами» [Чернявская, 2017, с. 84–85].
В ряде работ, посвященных проблематике освещения вооруженных конфликтов в СМИ, отмечается резкое усиление в такие периоды контроля за медиа со стороны государства. В частности, Н.С. Авдонина пишет о том, что «посредством СМИ происходит внедрение в массовое сознание необходимых идеологических клише» [Авдонина, 2012, с. 17]. Ключевую важность СМИ как «информационного оружия» подчеркивает Д.В. Соколова, которая указывает на то, что «в условиях вооруженных столкновений СМИ не просто информируют аудиторию о происходящих событиях, роль медиа значительно трансформируется, и в некотором смысле СМИ становятся одной из сторон конфликта, используя потенциал информационного оружия» [Соколова, 2019, с.187].
Американским исследователем Дж. Ла-коффом была выделена когнитивная модель «сказки о справедливой войне», в которой герой вынужден противостоять агрессору, совершающему преступление, защищая или себя или жертву [Lakoff, 1991]. Эта модель обсуждалась в публикациях многих российских ученых, среди которых Э.В. Будаев, констатировавший следующее: «в рамках риторического направления политической лингвистики было показано, что в основе конструируемой в политическом дискурсе “Сказки о справедливой войне” лежит необходимость в морализации конфронтации» [Будаев, 2007, с. 19].
Публикации периода Великой Отечественной войны опираются именно на образ справедливой, праведной войны, на что обращают внимание в своем исследовании Л.А. Бурганова и П.А. Корнилов, подчеркивая, что такой образ является одним из самых популярных в пропаганде. При этом «образ войны включен в образ мира и, в свою очередь, распадается на множество субобразов» [Бурганова, Корнилов, 2003, с. 56], в качестве которых, согласно мысли авторов, могут быть образы солдата, офицера, военачальника, труженика тыла и т. д.
Анализируя особенности работы СМИ в период вооруженных конфликтов, А.И. Ломов-цев указывает, что «типичными приемами СМИ в годы войны были: героизация реального поступка; унификация, универсализация и художественная реализация героического образа; создание собирательного образа врага; иерархичность и избирательность героических образов» [Ломовцев, 2002, с. 4].
Для выявления особенностей конструирования образа женщины в военном газетном дискурсе важно также понятие медиатизации. Термин был введен российскими исследовате- лями. Он означает выход информации того или иного содержания в главные темы медиаповестки. В годы Великой Отечественной войны такой информацией стали сведения о военных событиях. Военная информация не просто доминирует в газетном дискурсе, но и определяет психологию всего общества. Такое доминирование Н.Н. Борщева и О.А. Постникова называют «массмедийным насилием» [Борщева, Постникова, 2016, с. 23].
Исследуя публикации в советских газетах периода Великой Отечественной войны, мы можем говорить об изучении газетного дискурса, поскольку ограничиваемся четко очерченными временным отрезком, анализируем особую совокупность высказываний с учетом политического и идеологического контекста военного времени.
Одной из важнейших черт этого дискурса является обращение журналистов военного периода к образу женщины, поскольку представительницы прекрасного пола заменили мужчин у станков, в шахтах, на полях и участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Образ женщины при наличии константных черт претерпевает трансформации, определяемые положением дел, складывающимся на передовой.
Особенности женского милитарного образа в настоящее время составляют предмет исследований представителей многих гуманитарных наук. В частности, о смене гендерных стереотипов в публикациях о войне пишет К.В. Игаева, полагая, что инверсия гендерных ролей была вызвана военной необходимостью разделения обязанностей, которые традиционно воспринимались как мужские [Игаева, 2018, с. 249].
Проблематика трансформации образа героя в журналистских произведениях под влиянием складывающихся обстоятельств достаточно хорошо изучена в теории журналистики. Так, Е.В. Зеленина указывает на то, что отражение определенной эпохи, социальной среды – это необходимый фон, сопутствующий человеку, о судьбе которого говорит журналист в материале. При этом «образ не описывает всего богатства характеристик объекта, так как сам оригинал намного глубже и шире. На уровне чувств образ – это ощущение, восприятие, представление, а в плане логического мышления – понятие, суждение, умозаключение» [Зеленина, 2014, с. 34].
Опираясь на представленные исследования, рассмотрим тексты советских газет военного периода в аспекте создания образа женщины.
Результаты и обсуждение
Образ, формируемый публикациями газет военного периода, является унифицированным, то есть представляет всех женщин Советского Союза, вне зависимости от их социального статуса, уровня образованности, этнонацио-нальной принадлежности и т. д.
Кроме того, можно утверждать, что речь идет также о конструировании унифицированного образа-функции: женщины – труженицы тыла и женщины-солдата. Образ-функция принципиально отличается от публицистического образа, создаваемого в журналистском тексте тем, что не содержит или почти не содержит каких-то индивидуальных черт, присущих конкретному персонажу публикации: внешних характеристик, особенностей внутреннего мира и др. Задача конструирования такого образа в публикациях военного времени решается посредством идеологизации и милитаризации, максимального упрощения характера героя, сведения его к набору идеологических функций, использования языковых клише.
Конструирование унифицированного образа-функции, хотя и осуществляется в журналистских текстах, имеет сугубо пропагандистскую цель – в условиях нехватки мужчин, направленных в воюющую армию, мобилизовать женщин на борьбу с врагом и на предприятиях, выпускающих военную продукцию, и непосредственно на фронтах. Следовательно, газетный дискурс в условиях монополии государства на средства массовой информации в значительной степени является пропагандистским, большое влияние на него оказывает критическая ситуация, складывающаяся в войне.
Унифицированный образ-функция создается в советском военном газетном дискурсе с использованием инструментария идеологизации и милитаризации. Охарактеризуем каждый из этих инструментов.
Идеологизация образа
Образ представляется в публикациях газет «Комсомольская правда», «Правда» и «Красная Звезда» идеологизированным, что определяется маркерами комсомолка , советская и патриотка :
-
(1) ...Сотни тысяч патриоток нашли ту или иную форму своего участия в Отечественной войне (Советская женщина – великая сила // Правда. 1941. 8 окт.);
-
(2) ... Советские патриотки должны давать отпор малейшим вражеским вылазкам (Советская женщина – великая сила // Правда. 1941. 8 окт.);
-
(3) ...Судьбы советской женщины и ее детей неразрывно связаны с судьбами советской страны (Советская женщина – великая сила // Правда. 1941. 8 окт.).
Патриотизм, в соответствии с публикациями газет того времени, поддерживает силы работающих для фронта женщин и позволяет им добиваться невиданно высоких трудовых результатов, которые не могли быть достигнуты без мобилизующего патриотического начала:
-
(4) В годы войны с удесятеренной силой проявился патриотизм славных советских женщин (Карпова Н. Женщины на партийной работе // Правда. 1941. 10 окт.);
-
(5) ...Советские патриотки заменили здесь мужчин, ушедших на фронт, показывают замечательные образцы в работе, добиваются не только выполнения, но и перевыполнения плана (Васильева А. Славные дела советских патриоток // Правда. 1941. 23 окт.).
Идеологизации образа способствует характеристика женщин посредством маркера партийности – комсомолка :
-
(6) Комсомолка считала своим долгом рассказать населению района о докладе товарища Сталина (Верная дочь советского народа – Лиза Чайкина // Комсомольская правда. 1941. 30 дек.).
Строго говоря, комсомол не являлся партией, однако эта общественная организация называлась «ленинским коммунистическим союзом молодежи», работала под организационным и идейным руководством коммунистической партии и рассматривалась как ее ближайший кадровый резерв.
Маркер партийности актуализирует такую черту женщины, как преданность делу коммунистической партии и ее вождя:
-
(7) Четырнадцать селений обошла Лиза, разнося слова сталинской правды, вселяя надежду в наших людей, словно набатным колоколом поднимая их на борьбу за родную Отчизну (Верная дочь советского народа – Лиза Чайкина // Комсомольская правда. 1941. 30 дек.).
Практического значения поступок героини, судя по тексту, не имел, однако показывал вдохновленность девочки-подростка услышанными и прочитанными словами вождя и готовность к большим и самоотверженным усилиям для передачи смысла и духа этих слов.
Родина ассоциируется в публикациях не с семьей, родственниками и близкими, знакомыми с детства местами, а с партийным правительством и личностью руководителя страны:
-
(8) Храбрая дочь Родины Марина Раскова отвечала на эту заботу и ласковое, отеческое внимание вождя беспредельной преданностью Родине, партии, Сталину. Она работала над укреплением мощи военно-воздушных сил, не зная устали (Памяти Героя Советского Союза Марины Расковой // Комсомольская правда. 1943. 9 янв.).
Образ героини упрощается, теряет глубину, женственность и эмоциональную основу, становясь образом-функцией: женщина представляется как живущая долгом и ожиданием возможности совершить подвиг. Такой образ является милитарным – это образ солдата, лишенного индивидуальных черт, личных переживаний и готового к любым лишениям и даже смерти за идею.
Дискурс фиксирует активное применение средствами массовой информации маркера советская , призванного подчеркнуть особость советских женщин в их отношении к труду и обороне страны, высоту моральных качеств и твердость духа:
-
(9) Наш долг, долг советских женщин, – заменить их (отцов и братьев. – В. А. ) у станков и дать им столько вооружения и боеприпасов, сколько потребуется для разгрома врага (Девушки, на производство! // Комсомольская правда. 1941. 12 нояб.).
Идеологизация образа в газетном дискурсе военного времени осуществляется также посредством маркера патриотка, при этом во многих текстах он используется наряду с двумя другими маркерами – комсомолка и советская:
-
(10) Лучшие патриотки доказали, что советской девушке, воспитаннице большевистской партии, всякая работа по плечу (Девушки, вас ждут заводы! // Комсомольская правда. 1941. 14 нояб.).
Выстраивается линия взаимосвязанных маркеров: патриотка – советская – комсомолка ( член молодой гвардии / большевистской партии ).
Идеологические маркеры пронизывают публикации советских газет всего военного периода, практически не претерпевая изменений. Они константны. Мы можем видеть их в газетных материалах и победного 1945 года. При этом образ женщины – участницы трагических событий войны – трансформируется. Если в начале Великой Отечественной войны (1941 г.) в публикациях актуализируется образ женщины-труженицы, которая работает в цеху и в поле для фронта вместо мужчин, то в более поздних материалах (1943 г.) – образ женщины-солдата.
Милитаризация образа
Выделим несколько черт такого коллективного публицистического образа, создаваемого СМИ в 1941 году. В первую очередь отметим акцентирование газетных публикаций на формировании патриотического порыва, способствующего массовому приходу женщин на производство вместо мобилизованных в армию мужчин:
-
(11) Святая обязанность каждой патриотки работать в тылу так, чтобы фронт ни в чем не знал недостатка (Девушки, вас ждут заводы! // Комсомольская правда. 1941. 14 нояб. ).
Особо подчеркивается добровольность патриотического трудового выбора. Условия такого труда крайне тяжелы, и в материалах акцентируется внимание на самоотверженности женщин, героической составляющей их труда, имеющего прямое отношение к обороне:
-
(12) Женщина помогает фронту, женщина – крепкий тыл (Советская женщина – великая сила // Правда. 1941. 8 окт. );
-
(13) ...Нет буквально такого участка в производственной и общественной жизни, где советские патриотки не смогли бы заменить ушедшего на фронт бойца (Карпова Н. Женщина на партийной работе // Правда. 1941. 10 окт.).
Одновременно в текстах отражена широта вовлечения представительниц прекрасного пола в такую работу:
-
(14) Сотни тысяч девушек уже нашли свое место в боевом строю народа. Они заменили своих отцов и братьев на шахтах, у станков, у буровых скважин (Девушки, вас ждут заводы! // Комсомольская правда. 1941. 14 нояб.).
Однако только производственными задачами использование женского труда не ограничивалось. Кроме работы на заводах, советская женщина героически выполняла значительные вспомогательные военные функции, в том числе и связанные с опасностью для жизни:
-
(15) ...Они проявляют себя в санитарных дружинах, отрядах медицинских сестер, поваров, в организации противовоздушной обороны (Советская женщина – великая сила // Правда. 1941. 8 окт.).
Несмотря на огромное напряжение на фронте, в публикациях 1941 г. не обнаружено свидетельств о значительной мобилизации женщин для выполнения боевых задач. Факты участия женщин в сражениях единичны, количество женщин в шинелях ничтожно мало по сравнению с количеством привлекаемых на предприятия.
Такие публикации появляются в советских газетах несколько позже, начиная с 1943 года. Когда потери на фронтах стали столь велики, что понадобилось заменять уже не только мужчин-рабочих, но и мужчин-солдат. Газетный дискурс отражает ситуативные изменения – к идеологизированному образу добавляются новые мотивирующие элементы. Среди них добровольный отказ от образа жизни, характерного для женщины того времени, во имя выполнения патриотического долга по защите Отечества:
-
(16) Послушайте рассказ о 19-летней советской девушки, которая пришла на фронт, сменив иглу белошвейки на автомат бойца… С тех пор не раз ходила она в разведку, выполняя ответственные задания (Корольков Ю. Комсомолка Володя Рыбинский // Комсомольская правда. 1941. 26 дек.).
В газетных публикациях конструируется образ женщины, уничтожающей врага:
-
(17) Доблестная защитница Севастополя снайпер Людмила Павлюченко уничтожила 309 немцев (Мишакова О. Советская женщина в Великой Отечественной войне // Комсомольская правда. 1943. 8 марта);
-
(18) Капитан гвардии, дважды орденоносец Вера Крылова – отличный автоматчик, пулеметчик, истребитель танков (Мишакова О. Советская женщина в Великой Отечественной войне // Комсомольская правда. 1943. 8 марта).
В описании боевых ситуаций, в которых участвуют женщины-воины, нет места колебаниям, сложным психологическим оценкам и нравственным терзаниям относительно противоестественности самого факта уничтожения людей, являющихся солдатами противника, сожаления об отнятых войной жизнях.
Образ женщины-солдата конструируется в публикациях советских газет военного периода параллельно с конструированием образа труженицы тыла, постепенно выдвигаясь на первый план и становясь главным. Быть труженицей тыла – почетно и правильно, но воевать на фронте – еще почетнее. Для конструирования образа женщины-солдата используются те же маркеры, что и при конструировании образа женщины-труженицы – советская , патриотка , комсомолка , но к ним добавляются еще и такие маркеры, которые характеризуют воина, бойца, например отважная , храбрая и смелая :
-
(19) Тысячи смелых , отважных советских женщин с оружием в руках встали на защиту Родины. Они овладевают искусством истреблять врага, упорно и настойчиво изучают оружие (Мишакова О. Советская женщина в Великой Отечественной войне // Комсомольская правда. 1943. 8 марта);
-
(20) Командование высоко оценило подвиг советской патриотки. Она была награждена орденом «Красной Звезды». Храбрая девушка вступила в ряды партии... Она погибла, как солдат в своем родном полку, с которым не раз ходила в атаку (Гвардии капитан Вольфсон. Дочь Латвии // Комсомольская правда. 1941. 15 апр.).
Активно применяется нетипичный для конструирования женского образа маркер мужественная, который способствует пониманию читателем того, что женщина выполняет на фронте традиционно мужскую солдатскую функцию – уничтожение врага:
-
(21) Во многих боях участвовали девушки-снайперы. Они мужественно сражались, истребили десятки немцев, обучили целую группу молодых снайперов (Письма Наташи Ковшовой // Комсомольская правда. 1943. 23 мая).
При этом тексты публикаций концентрируют внимание на добровольности ухода женщин на фронт, их личном желании сражаться с фашистами. В материалах газет нет обращенного к гражданкам страны призыва отправляться в бой, но презентуются в качестве образца проявления патриотизма многочисленные примеры таких поступков:
-
(22) У Григория Григорьевича есть дочь – комсомолка Клавдия. Теперь она доброволец, боец противовоздушной обороны (Карташов А. Отец и дочь // Комсомольская правда. 1943. 30 мая).
Женщинами-солдатами гордятся их семьи, жители родных для них мест и трудовые коллективы, из которых они вышли:
-
(23) Жители деревни Великий Двор Тихвинского района Ленинградской области могут гордиться своей землячкой – отважным солдатом, умелым снайпером (Капитан Гюне Л. Чижик и ее подруги // Комсомольская правда. 1943. 1 июня);
-
(24) Как мать горжусь Тосей. Она честно выполняет мой материнский наказ – истреблять немецкую гадину (Капитан Гюне Л. Чижик и ее подруги // Комсомольская правда. 1943. 1 июня).
Желание противостоять гитлеровцам на поле боя, лицом к лицу с опасностью для женщин добровольное, но совершенно необходимое, это естественное проявление патриотического воспитания, любви к Родине.
Особого внимания требуют примеры использования журналистами газет фронтового периода при конструировании образа женщины-солдата маркера жертвенность. С его помощью фиксируется не только готовность советской женщины отдать жизнь для победы над врагом, но и презрение к смерти:
-
(25) В последнем своем бою Наташа Ковшова и Мария Полеванова оказались в окружении. Расстреляв весь запас патронов, отважные патриотки предпочли смерть позорному немецкому плену (Письма Наташи Ковшовой // Комсомольская правда. 1943. 23 мая).
Нужно констатировать, что жертвенность понимается в прямом значении – пожертвовать собой, отдать жизнь, умереть, а не в более привычном для образа женщины – жертвенность как материнство, через готовность пожертвовать своими интересами для ребенка, семьи, родных и близких. Жертвенность в журналистских текстах периода Великой Отечественной войны – это именно жертвенность солдата.
Отметим применение по отношению к женщинам, выполняющим боевые задачи в армейских подразделениях, военных терминов, определяющих армейские статус и специальности, – боец , солдат , снайпер , пулеметчик , автоматчик , истребитель . Это обстоятельство также указывает на унификацию образа и конструирование его как образа-функции. Образ воюющей женщины не нуждается в репрезентации «женских» черт, в нем нет места гуманистическим аспектам, эмоциям, обычно обязательно выраженным в «немилитарных» публикациях, создающих портрет женщины. Использование при конструировании образа женщины сугубо военной терминологии подчеркивает критичность ситуации, необходимость отказаться от любых проявлений женственности, от любых сомнений для сосредоточения на главной задаче – смертельной битве с врагом.
Выводы
Таким образом, можно констатировать, что образ женщины в газетном дискурсе периода Великой Отечественной войны создается в системе идеологизированных и милитаризированных маркеров. Описанные маркеры можно рассматривать как систему, поскольку они способствуют сакрализации единого медиапространства, формируют локации эталонных состояний для реализации единой цели – мобилизации женщин на борьбу с врагом через самоотверженный труд или непосредственное участие в боевых действиях. Этот образ является унифицированным, лишенным каких-то характерных для журналистских материалов «немилитарных» периодов индивидуальных черт. Задачей создателей унифицированного образа стала мобилизация женщин на трудовые, а затем и на боевые подвиги. Рассматриваемый образ представляет собой не публицистический портрет, а образ-функцию с набором функциональных черт женщины, обеспечивающей производство в интересах фронта, и женщины-солдата.
Выявление идеологизированных и милитаризированных маркеров составляет важную научную задачу, актуализированную как обилием в современном российском медиапространстве журналистских текстов о войнах и боевых конфликтах последнего времени, наличием в них пропагандистских и мобилизационных концептов, так и обращением исследователей различных областей знания к теме Великой Отечественной войны в год 75-летия со дня ее окончания.
Список литературы Унифицированный образ советской женщины в системе маркеров газетного дискурса военного времени
- Авдонина Н. С., 2012. Журналистика и политика вооруженного конфликта: сравнительный анализ американской и отечественной прессы : дис. ... канд. полит. наук. СПб. 269 с.
- Борщева Н. Н, Постникова О. А., 2016. Современная военная журналистика: тенденции развития и профессиональные стандарты // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. №2 2. С. 23-25.
- Будаев Э. В., 2007. Сказка о справедливой войне в средневековом политическом дискурсе // Политическая лингвистика. Вып. 3 (23). С. 19-22.
- Бурганова Л. А., Корнилов П. А., 2003. Реконструирование структуры образа военного конфликта (по материалам СМИ) // Социологические исследования. №2 6. С. 56-63.
- Игаева К. В., 2018. Гендерные исследования «новых войн»: воспроизводство маскулинности или переосмысление представлений о мужестве // Социология власти. №9 1. С. 245-251.
- Зеленина Е. В., 2014. «Портрет героя»: ценностно-смысловые и творческие аспекты // Вопросы теории и практики журналистики. № 2. С. 33-52.
- Ломовцев А. И., 2002. Средства массовой информации и их воздействие на массовое сознание в годы Великой Отечественной войны: на материалах Пензенской области : дис. ... канд. ист. наук. Пенза. 200 с.
- Савельева Е. Б., 2015. О взглядах Мишеля Фуко на теорию дискурса // Вестник Московского института лингвистики №2 2. С. 92-95.
- Соколова Д. В., 2019. Медиатизация войн во Вьетнаме и Афганистане // Известия Уральского федерального университета. Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры. Т. 25. С. 187-189.
- Фуко М., 1996. Археология знания. Киев : Ника-Центр. 208 с.
- Чернявская В. Е., 2017. Операционализация контекста в дискурсивном анализе // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Т. 9, вып. 4. С. 83-93. DOI: 10. 17072/2037-6681-2017-4-83-93.
- Lakoff G., 1991. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // VietNam Generation Journal & Newsletter. URL: http:// www2. iath.virginia. edu/sixties/HTML_docs/ Texts/Scholarly/ Lakoff_Gulf_Metaphor_1.html (date of access: 10.04.2019).
- Wodak R., 2015. The Politics ofFear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. L. : Sage. 238 p.
- Антонова Ц., Кронгауз Р. Анна Лаптева и ее подруги // Комсомольская правда. 1941. 26 нояб.
- Васильева А. Славные дела советских патриоток // Правда. 1941. 23 окт.
- Верная дочь советского народа - Лиза Чайкина // Комсомольская правда. 1941. 30 дек.
- Вольфсон. Дочь Латвии // Комсомольская правда. 1941. 15 апр.
- Гвардии капитан Вольфсон. Дочь Латвии // Комсомольская правда. 1941. 15 апр.
- Гюне Л. Чижик и ее подруги // Комсомольская правда. 1943. 1 июня.
- Девушки, вас ждут заводы! // Комсомольская правда. 1941. 14 нояб.
- Девушки, на производство! // Комсомольская правда. 1941. 12 нояб.
- Капитан Гюне Л. Чижик и ее подруги // Комсомольская правда. 1943. 1 июня.
- Карпова Н. Женщины на партийной работе // Правда. 1941. 10 окт.
- Карташов А. Отец и дочь // Комсомольская правда. 1943. 30 мая.
- Корольков Ю. Комсомолка Володя Рыбинский // Комсомольская правда. 1941. 26 дек.
- Марина Абрамова // Комсомольская правда. 1941. 30 нояб.
- Мишакова О. Советская женщина в Великой Отечественной войне // Комсомольская правда. 1943. 8 марта.
- Памяти Героя Советского Союза Марины Расковой // Комсомольская правда. 1943. 9 янв.
- Письма Наташи Ковшовой // Комсомольская правда. 1943. 23 мая.
- Советская женщина - великая сила // Правда. 1941. 8 окт.
- Стахановские дела творцов оружия - Антонины Тихоновой и ее подруг // Правда. 1941. 24 окт.
- Учительница из Жашкова // Комсомольская правда. 1941. 18 нояб.
- Фашизм - злейший враг женщин. Смерть фашизму! // Комсомольская правда 1941. 9 сент.